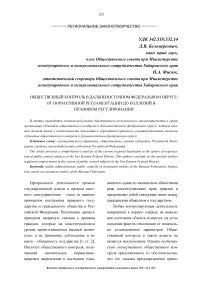Общественный контроль в Дальневосточном федеральном округе: от нормативной регламентации до коллизий в правовом регулировании
Автор: Белоцеркович Д.В., Фисюк И.А.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Региональное законотворчество
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится комплексный анализ действующего регионального законодательства в сфере организации субъектов общественного контроля в Дальневосточном федеральном округе. Авторы статьи делают вывод о необходимости дальнейшего нормативно-правового совершенствования системы субъектов общественного контроля в Дальневосточном федеральном округе.
Государственное управление, общественные советы субъектов российской федерации, система законодательства субъектов российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/143163124
IDR: 143163124
Текст научной статьи Общественный контроль в Дальневосточном федеральном округе: от нормативной регламентации до коллизий в правовом регулировании
Прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления – один из важных принципов построения правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Реализация данного принципа напрямую связана с правами граждан, которые на конституционном уровне провозглашаются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства [1, ст. 2]. Институт общественного контроля, получивший значительное нормативноправовое закрепление в последние годы, является одним из механизмом обеспечения ряда конституционных прав граждан и представляет собой связующее звено между гражданским обществом и государством.
Любая контролирующая деятельность направлена в первую очередь на выявление состояния объекта контроля, на установление фактов отклонения от изначально установленных параметров. Общественный контроль в таком аспекте не является исключением. Однако особенностью отечественного общественного контроля представляется то обстоятельство, что его основы предопределены право- выми нормами. В 2014 г. был принят Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [2] (далее – Закон об общественном контроле). С одной стороны, правовое регулирование общественного контроля является позитивным моментом, ведь устанавливаются единые контуры соответствующей деятельности. Как отметил при принятии указанного нормативного акта В.В. Гриб, «такого закона нет ни в одной стране мира... Это беспрецедентный закон, который фактически даёт конституционное право каждому гражданину и общественным организациям управлять государством…» [3]. С другой стороны, установление общих параметров для общественного контроля не позволяет его толковать широко. В таком случае не всегда правовое регулирование объективно отвечает складывающимся общественным отношениям. Подтверждением этому может служить уникальность Закона об общественном контроле в мировом правовом пространстве. Кроме того, в научной литературе обсуждаются вопросы несовершенства Закона, например в части исключения граждан и общественных объединений из числа непосредственных субъектов общественного контроля [4, с. 18; 13, с. 46].
Общественный контроль, с позиции законодателя, представляет собой деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемую в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель- ные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений [2, ч. 1 ст. 4]. Всеобъемлющий характер общественного контроля обусловил предоставление субъектам РФ полномочий по принятию собственных нормативных правовых актов в развитие положений Закона об общественном контроле. Так, практически во всех субъектах РФ Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) имеются собственные законы, в большей или меньшей степени детализирующие положения федерального законодательства. Эти законы отличаются как по названию, так и по содержанию, но всё же многие нормы заимствованы из Закона об общественном контроле и детализированы с учётом региональной специфики соответствующих общественных отношений.
Так, в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области действуют законы об общественном контроле в соответствующих субъектах РФ [5; 6]. В Хабаровском крае, Камчатском крае и Сахалинской области приняты законы об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в соответствующих субъектах РФ [7; 8; 9]. В Чукотском автономном округе действует Закон «О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в Чукотском автономном округе» [10]. В Амурской области и Еврейской автономной области приняты законы «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля на территориях соответствующих субъектов РФ» [11; 12]. Единственным регионом ДФО, в ко- тором отсутствует собственный закон, направленный на регулирование вопросов общественного контроля, является Приморский край. Примечательно, что в ряде субъектов ДФО законы об общественном контроле были приняты относительно недавно: в Сахалинской области – в 2017 г., в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 2016 году. До принятия соответствующих нормативных актов опыта подобного правового регулирования в указанных субъектах РФ не было.
Остановимся на некоторых ключевых аспектах правового регулирования общественного контроля в субъектах ДФО. Первый из них касается субъектов общественного контроля. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона об общественном контроле предусмотрено четыре таких субъекта: Общественная палата РФ; общественные палаты субъектов РФ; общественные палаты (советы) муниципальных образований; общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов РФ [2]. О том факте, что перечень субъектов достаточно узок, уже говорилось. При этом Закон об общественном контроле обусловливает неопределённость ч. 2 ст. 9, где перечислены организационные структуры общественного контроля, создание которых допускается: общественные наблюдательные комиссии; общественные инспекции; группы общественного контроля; иные организационные структуры общественного контроля. С одной стороны, перечисленные структуры являются субъектами общественно- го контроля, так как включены в статью, имеющую наименование «Субъекты общественного контроля». С другой стороны, в ст. 9 организационные структуры не названы субъектами, следовательно, имеют иной характер. В противном случае зачем следовало их отделять от субъектов общественного контроля? Однако Закон об общественном контроле не содержит определения организационных структур общественного контроля, что усложняет идентификацию таких структур. На наш взгляд, целесообразно придерживаться второй позиции. В научной литературе господствует именно такой подход [14, с. 47].
В региональных законах дальневосточных регионов вопрос о субъектах общественного контроля решён по-разному. Так, в Магаданской области учтены положения ч. 1 ст. 9 Закона об общественном контроле, к его субъектам отнесены общественные палаты области и муниципальных образований, общественные советы при областной Думе и при исполнительных органах государственной власти области. Это стандартный вариант. При этом в качестве организаторов общественного контроля названы общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации [5, ст. 1].
Практически аналогичный подход реализован в Еврейской автономной области [12, ч. 1 ст. 2].
В Чукотском автономном округе выделено целых шесть субъектов общественного контроля. Первые четыре аналогичны тем, что существуют в Магаданской области. Вместе с тем дополнительно обозначены в качестве субъектов об- щественные инспекции и группы общественного контроля [10, ст. 1]. Хотя, как мы указывали, по смыслу ч. 2 ст. 9 Закона об общественном контроле общественные инспекции и группы общественного контроля отнесены к организационным структурам контроля, но никак не к субъектам. Поэтому положения Закона Чукотского автономного округа «О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля» в части перечня субъектов контроля нуждаются в согласовании с федеральным законодательством.
В некоторых законах дальневосточных регионов вообще отсутствует какой-либо перечень субъектов общественного контроля при наличии упоминания о них и некоторых элементах их правового статуса. Например, в Хабаровском и Камчатском краях господствует именно такой подход [7; 8]. Это обусловлено фактом федерального регулирования данной сферы и отсутствием необходимости дублирования норм Закона об общественном контроле в законодательстве субъектов РФ.
В Сахалинской области региональный законодатель пошёл по пути структурного копирования Закона об общественном контроле. В региональном нормативном акте определены как субъекты, так и организационные структуры общественного контроля. И если организационные структуры полностью дублированы из соответствующего Федерального закона, то к субъектам отнесено только три их вида: общественная палата области; общественный совет при областной Думе и общественные советы при исполнительных органах государственной власти области. Не упомянуты общественные пала- ты (советы) муниципальных образований. Однако это не значит, что они не могут существовать на территории Сахалинской области. Диспозиция ч. 1 ст. 2 регионального Закона сформулирована таким образом, что перечисленные субъекты создаются на основе правовых актов Сахалинской области. Следовательно, не исключено создание общественных палат (советов) муниципальных образований на основании муниципальных правовых актов. Но указанный подход регионального законодателя не совсем ясен. Если исходить из того факта, что Закон Сахалинской области направлен на регулирование осуществления общественного контроля в Сахалинской области в целом, а вопросы установления общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления Конституцией РФ отнесены к совместному ведению РФ и её субъектов [1, п. и) ч. 1 ст. 72], то не совсем понятно оставление без внимания субъектов общественного контроля на муниципальном уровне при перечислении всех иных субъектов. На этом основании ст. 2 Закона Сахалинской области «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Сахалинской области» целесообразно дополнить ч. 1.1 следующего содержания: «1.1. Субъектами общественного контроля в Сахалинской области, создаваемыми на основании муниципальных правовых актов, являются общественные палаты (советы) муниципальных образований».
Специфичны субъекты общественного контроля в Республике Саха (Якутия). Во-первых, в отличие от других регионов ДФО, в республиканском законе субъек- ты общественного контроля определены в статье, закрепляющей термины и понятия. То есть определение субъектов общественного контроля дано через перечисление их видов, что не вполне согласуется с правилами юридической техники, но нередко используется и федеральным законодателем. Во-вторых, в Законе Республики Саха (Якутия) предусмотрено сразу шесть видов субъектов общественного контроля: Общественная палата РФ, Общественная палата Республики, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, Общественный совет при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики, общественные советы при исполнительных органах государственной власти Республики [6, ст. 2]. Очевидно, что республиканский законодатель не вполне обоснованно включил в перечень субъектов Общественную палату РФ и общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, так как указанные субъекты неподвластны региональной власти. Их включение в республиканский закон – бессмысленное копирование норм Закона об общественном контроле. Остальные субъекты общественного контроля типичны для закрепления в законодательстве регионов ДФО.
Интересен в плане закрепления субъектов общественного контроля Закон Амурской области «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля на территории Амурской области». С одной стороны, он не содержит перечня субъектов. На этом основании Амурскую область можно было бы отнести в группу к Хабаровскому и Камчатскому краям. Но, с другой стороны, в отличие от законов Хабаровского края и Камчатского края, в Законе Амурской области в некоторых статьях прямо говорится о том, кто является субъектами общественного контроля. К ним отнесены Общественная палата области, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при органах законодательной (представительной) и исполнительной власти области, а также общественные советы при органах местного самоуправления [11]. Примечательно, что последний субъект является уникальным. Он не назван ни в Законе об общественном контроле, ни в каком-либо из законов регионов ДФО. Кроме того, законодатель Амурской области предпринял попытку разграничить субъектов общественного контроля от организационных структур контроля и в ч. 1 ст. 4 определил, что «при субъектах общественного контроля в случаях, порядке и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут быть созданы организационные структуры общественного контроля: общественные инспекции, группы общественного контроля» [11]. То есть структуры общественного контроля курируются субъектами.
Второй важный аспект связан с объектами общественного контроля. В Законе об общественном контроле напрямую не упоминаются такие объекты. Однако региональное законодательство в ДФО в этой части идёт по иному пути. В большинстве законов субъектов РФ ДФО не определены объекты общественного кон- троля. Однако в Республике Саха (Якутия) к объектам отнесены органы государственной власти Республики, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, за деятельностью которых осуществляется общественный контроль [6, ст. 2]. В Амурской области и Еврейской автономной области в качестве объектов указаны деятельность органов и организаций, а также издаваемые ими акты и принимаемые ими решения [11; 12, ч. 3 ст. 1]. В приведённых примерах очевиден кардинально разный подход, следовательно, один из них – ошибочный. Если исходить из общераспространённой позиции о том, что объектом является явление или процесс, а предметом – одна или несколько его сторон, то в таком случае в Законе Республике Саха (Якутия) определён объект общественного контроля, а в законах Амурской области и Еврейской автономной области – предмет. Ошибка в изложении законодательного материала основана на неправильном толковании определения общественного контроля, данного в Законе об общественном контроле, где сказано, что он осуществляется «в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [2, ч. 1 ст. 4].
Таким образом, на наш взгляд, объек- том общественного контроля являются органы и организации, за деятельностью которых может осуществляться общественный контроль, а предметом – отдельные стороны их деятельности, включая издание ими актов и принятие решений. На этом основании требуют корректировки нормы ч. 3 ст. 2 законов Амурской области и Еврейской автономной области. Корректировка может заключаться в замене слова «объект» на слово «предмет».
Наконец, третий важный аспект нормативно-правового регулирования общественного контроля в субъектах РФ ДФО – формы контроля. В Законе об общественном контроле определено, что к таким формам отнесены общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания [2, ч. 1 ст. 18]. Каждая из перечисленных форм контроля находит раскрытие своего содержания в указанном Законе. Перечень форм контроля – открытый, но с одним условием: они не должны противоречить Закону об общественном контроле.
В большинстве законов субъектов РФ ДФО при указании на формы общественного контроля содержится отсылка к федеральному закону. Так, в Магаданской области общественный контроль осуществляется в установленных федеральным законом формах, в том числе в формах общественной проверки, общественной экспертизы и общественного обсуждения [5, ч. 1 ст. 2]. Сами формы с содержательной стороны практически не раскрываются.
В Законе Чукотского автономного округа вообще ничего не сказано о пе- речне форм общественного контроля. Однако ст. 3, 4, 5 и 6 соответственно посвящены общественной проверке, общественной экспертизе, общественному обсуждению и публичным слушаниям [10]. А это всё предусмотренные Законом об общественном контроле формы контроля. В целом Закон Чукотского автономного округа дублирует положения федерального закона в части форм контроля и детализирует некоторые его положения. В таком же виде решён вопрос о формах общественного контроля и в Хабаровском крае [7].
В Законе Сахалинской области использован во многом схожий подход, но имеется отсылка к Закону об общественном контроле. Отдельные статьи посвящены общественной проверке, общественной экспертизе и общественному обсуждению [9].
В Амурской области фактически дублируется статья Закона об общественном контроле, устанавливающая формы контроля [11, ст. 5]. Аналогично дело обстоит в Еврейской автономной области [12, ст. 4].
В Законе Камчатского края формы общественного контроля не раскрыты и не перечислены [8]. Региональный законодатель не стал останавливаться на данном вопросе.
Наибольший интерес представляет Закон Республики Саха (Якутия). В части форм контроля в нём есть отсылка к Закону об общественном контроле. Глава 3 указанного Закона представляется достаточно объёмной. В ней раскрыты такие формы контроля, как общественное обсуждение, общественные слушания, публичные слушания, общественный мониторинг, общественная экспертиза, обще- ственная проверка, общественное расследование, опрос общественного мнения, публичный отчёт руководителя органа государственной власти Республики, органа местного самоуправления, государственной или муниципальной организации [6]. В связи с изложенным следует отметить несколько обстоятельств.
Во-первых, в республиканском Законе, в отличие от иных субъектов РФ ДФО, перечислены, раскрыты и детализированы все предусмотренные федеральным законом формы общественного контроля.
Во-вторых, республиканский Закон разграничивает публичные и общественные слушания, в то время как федеральный законодатель, наоборот, отождествляет их. При этом принципиальное отличие публичных и общественных слушаний по смыслу регионального нормативного акта заключается в том, что на публичных слушаниях обсуждаются проекты нормативных правовых актов, а на общественных – проекты решений органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и учреждений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, на предмет их соответствия общественным интересам. Наш взгляд, указанное разграничение не совсем удачно, так как из Закона об общественном контроле не следует, каким образом можно дифференцировать общественные и публичные слушания. Фактически это одно и то же. Кроме того, республиканский законодатель существенно сужает возможности рассматриваемой формы общественного контроля, так как Закон об общественном контроле предусматривает включение в предмет общественных (публичных) слушаний решений различных субъектов, затрагивающих не только права и свободы человека и гражданина, но и права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. На этом основании требуется приведение республиканского Закона в соответствие федеральному.
В-третьих, Закон Республики Саха (Якутия) расширяет перечень форм общественного контроля и дополнительно раскрывает такие, как общественное расследование, опрос общественного мнения, а также публичный отчёт руководителя органа государственной власти Республики, органа местного самоуправления, государственной или муниципальной организации. Данный подход соответствует Закону об общественном контроле и является весьма прогрессивным.
Таким образом, институт общественного контроля в субъектах РФ ДФО закреплён по-разному. В основном региональный законодатель идёт по пути дублирования и детализации некоторых норм Закона об общественном контроле. Однако анализ действующей региональной базы показал, что в отдельных субъектах ДФО имеется не только специфичное правовое регулирование общественного контроля, но и регулирование, противоречащее фе- деральному законодательству. Соответственно коллизии должны быть устранены. В целом можно констатировать, что правовая регламентация общественного контроля в субъектах ДФО весьма разнообразна: от полного отсутствия соответствующего закона (как в Приморском крае) до наличия достаточно объёмного нормативного правового акта, существенно дополняющего Закон об общественном контроле (как в Республике (Саха) Якутия.
Список литературы Общественный контроль в Дальневосточном федеральном округе: от нормативной регламентации до коллизий в правовом регулировании
- Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.)//СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
- Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федер. закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.)//СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213; 2016. № 27 (ч. II). Ст. 4286.
- Президент РФ подписал Закон «Об основах общественного контроля» //URL: http://www.oprf.ru/ru/press/832/newsitem/25516?PHPSESSID=pqbpufai60jo8jahsmk9pc56j3 (дата обращения 12.11.2017).
- Доровских Д. В. Общественный контроль в Российской Федерации: правовые основы/Д. В. Доровских//Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 6. С. 14-18.
- Об общественном контроле в Магаданской области: закон Магаданской области от 27.02.2015 г. № 1867-ОЗ (в ред. от 04.07.2016 г.)//Магаданская правда. (Приложение). 2015. 3 марта; 2016. 12 июня.
- Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия): закон Республики Саха (Якутия) от 30.04.2014 г. № 1305-З № 167-V (в ред. от 27.11.2015 г.)//Якутские ведомости. 2014. 24 мая; 2015. 8 декабря.
- Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае: закон Хабаровского края от 22.09.2015 г. № 110 (в ред. от 25.01.2017 г.) //Официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края. URL: http://www.laws.khv.gov.ru (дата обращения 12.11.2017).
- Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Камчатском крае: закон Камчатского края от 03.06.2016 г. № 806 //Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.11.2017).
- Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Сахалинской области: закон Сахалинской области от 27.04.2017 г. № 32-ЗО//Губернские ведомости. 2017. 3 мая.
- О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в Чукотском автономном округе: закон Чукотского автономного округа от 20.12.2016 г. № 144-ОЗ//Ведомости. 2016. 23 декабря.
- Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля на территории Амурской области: закон Амурской области от 29.12.2014 г. № 478-ОЗ (в ред. от 10.03.2015 г.)//Амурская правда. 2015. 13 января; 2015. 14 марта.
- Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Еврейской автономной области: закон Еврейской автономной области от 25.11.2015 г. № 822-ОЗ (в ред. от27.01.2016 г.)//Биробиджанская звезда. 2015. 4 декабря; 2016. 12 февраля.
- Киричек Е. В. Общественный контроль в России: некоторые теоретико-методологические особенности и проблемы законодательного регулирования/Е. В. Киричек//Конституционное и муниципальное право. 2016. № 9. С. 43-46.
- Князев А. П. К вопросу об организационных структурах общественного контроля/А. П. Князев//Юридический мир. 2016. № 8. С. 47-49.