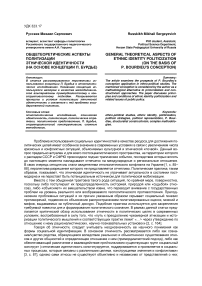Общетеоретические аспекты политизации этнической идентичности (на основе концепции П. Бурдье)
Автор: Русских Михаил Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются перспективы использования концепции П. Бурдье в этнополитических исследованиях. Названная концепция используется автором в качестве методологической альтернативы примордиалистскому и конструктивистскому подходам. Раскрываются принципы и условия политизации этнической идентичности и связанные с ней проблемы государственной политики.
Этнополитические исследования, этническая идентичность, политизация, политические стратегии, политическое представление, п. бурдье, структуралистский конструктивизм, сложные методологии
Короткий адрес: https://sciup.org/14931819
IDR: 14931819 | УДК: 323.17
Текст научной статьи Общетеоретические аспекты политизации этнической идентичности (на основе концепции П. Бурдье)
Проблема использования социальных идентичностей в качестве ресурса для достижения политических целей имеет особенное значение в современных условиях в связи с увеличением числа кризисных и конфликтных ситуаций, объясняемых культурной и этнической «почвой». Данный вопрос предельно актуален и для всего постсоциалистического пространства, на территории которого с распадом СССР и СФРЮ происходили подчас трагические события, последствия которых вплоть до настоящего момента накладывают отпечаток на международные и региональные отношения. В свою очередь сегодня мы стали свидетелями этнополитического конфликта на Украине [1, с. 8588], перспектива разрешения которого не представляется отчетливо. Политическая практика, таким образом, показывает, что этническая идентичность не утрачивает актуальности в состоянии постмодерна и не перестает быть потенциальным источником для политической мобилизации.
Вместе с тем обыденная трактовка такого рода ситуаций, по крайней мере, поверхностна, поскольку либо постулирует их предопределенность (историей, природой или «судьбой» этносов), либо «объясняет» их вмешательством извне, что переводит внимание с государственных проблем на уровень реального или воображаемого геополитического противостояния. Преподнесение проблемных ситуаций и их причин указанным образом скрывает социальный генезис противоречий, подменяя их объяснение распространением политизированных оценок, мнений и мифов, выдаваемых за публичный дискурс. Подобная практика используется для закрепления требуемой повестки дня и формирования политического сознания. В рамках данной статьи предлагается критический обзор использования этничности в политических целях в современных условиях, востребованный в силу того, что «путь к преодолению чрезмерной этнизации и исто-ризации политического мышления и соответствующих практик лежит <...> через утверждение по отношению к нему рационалистических, научно-познавательных установок» [2, с. 164].
Говоря об этничности, следует учитывать неоднозначность ее научного понимания как формы социальной идентификации. В основном этничность рассматривается либо как созна-ние/чувство родства, образующееся вследствие реального и объективного существования этносов и других общностей и определяющее отношение к ним (примордиалистский подход), либо как обеспечивающий различение и взаимодействие предполагаемо существующих групп социальный конструкт («этническая идентичность конституируется, поддерживается и проявляется в социальных процессах, которые связаны с различными целями, конструкциями значения и конфликтами» [3, с. 87], однако сами этносы не существуют объективно и независимо от представлений о них;
конструктивистский подход). Поскольку обеим трактовкам свойственны концептуальные недостатки [4; 5, с. 432], представляется разумным использовать для понимания этничности компромиссное решение, намеченное в теории структуралистского конструктивизма [6, с. 181] французского социолога Пьера Бурдье (1930–2002 гг.).
Согласно его концепции, в этнической идентичности сведены устойчиво воспроизводимые различения, отношения и ориентации, возникающие при интернализации этнически маркированного коллективного знания-памяти, объективированно передаваемого в нарративах, практиках, символике, языке, и ситуативно проступающие в контексте многочисленных форм повседневного социального поведения. Исходя из этого, этничность обладает политическим ресурсом, поскольку, во-первых, не нейтральна, дорефлексивно предопределяя логику действий в смысловых границах групп; во-вторых, по П. Бурдье, «каждая группа <в том числе этническая, вне зависимости от способа ее понимания> имеет свои более или менее институционализированные формы делегирования прав (delegation), что позволяет концентрировать весь объем социального капитала, лежащего в основе ее существования…, в руках одного агента или небольшой группы агентов и наделять их полномочиями представлять всю группу, полноправно действовать и выступать от ее имени» [7, с. 308]; в-третьих, собственное политическое значение этничности, как и других элементов общественных отношений, не бывает окончательно зафиксированным [8, p. 22], то есть остается открытым, что позволяет вести борьбу за его (пере-)определение.
Согласно П. Бурдье, под политикой понимается поле конкурентной борьбы агентов, обладающих символическим капиталом (в форме «авторитета» и др.) посредством представительской деятельности, за власть «создавать группы и манипулировать объективной структурой общества» [9, с. 205] через навязывание определенных способов видения, деления и конституирования социального мира (то есть идеологических конструкций). Говоря по-другому, в политике ведется постоянная борьба за придание частной позиции того либо иного представителя (политически манифестирующего «тела»: стороны, силы, партии, лица и т. д.) статуса и веса публичного (признаваемого в качестве актуального, общего и объективно обоснованного) видения ситуации. Однако здесь следует сделать два отступления.
Во-первых, для того чтобы политическое противоборство из раза в раз не принимало форму открытого конфликта, необходим четко определенный порядок объективации признания (легитимации), который сегодня обеспечивает институт государства. По П. Бурдье, государство играет роль арбитра при столкновении агентов поля политики, будучи средоточием официального (инструментально понимаемого онтологического) знания об обществе [10, с. 201–202]. Таким образом, в государственной перспективе образуется и замыкается единое пространство политической борьбы, вне которого агенты не могли бы занимать позиции друг относительно друга и, соответственно, противостоять.
Во-вторых, политические изменения не безграничны: создание (точнее оформление) групп не происходит из ничего, для него используются политические стратегии, основанные на сохранении либо изменении видения существующих форм социальной идентификации. По П. Бурдье, данные стратегии преимущественно «нацелены на ретроспективное конструирование прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего» [11, с. 199]. В таком случае политическая состоятельность этноса/этничности выводится из идеологической пересборки исторических нарративов (спекуляций на теме коллективного знания-памяти) и (или) путем политического мифологизирования. Последнее объясняется тем, что собственно исторические нарративы не способны оказать на членов «потенциальной» группы решающего конституирующего воздействия. Отметим, что вероятность принятия спекуляций как правомочных воззрений зависит от степени доверия к объяснительным установкам, обеспечивающим актуальный и «естественный» (доксический, по П. Бурдье [12, с. 37]) характер того либо иного социальнополитического порядка в целом.
Согласно концепции П. Бурдье, политизация группообразующих признаков (в том числе этничности) всегда носит диалектический характер: именование и оформление групп, их «объективной» воли и требований, производимые в актах политического представления (через выступления от имени группы, программы, использование символики), взаимосвязаны [13, с. 36]. Тем самым политическая актуализация этнической идентичности, особенно в кризисных ситуациях, создает условия для приостановки действия текущего порядка и делает осуществимым переопределение политического значения групп (сообществ) и, следовательно, символических, социальных и физических границ «их» территорий, подчас в отчетливо антагонистической форме, что приводит к деактуализации других политически значимых идентичностей (национальной, классовой и др.). Агентами изменения в таком случае, помимо собственно политических организаций, могут становиться и связанные военизированные формирования, и общественные объединения, создаваемые под началом этноцентрически ориентированных политических сил, бюрократии, бизнеса и интеллектуальных кругов.
Политизация этнической идентичности, таким образом, обладает собственной внутренней логикой: в фундаменте стратегии находится интенция переопределения оснований для политического представления и, соответственно, для накопления символического капитала, необходимого при выстраивании и поддержании политического субполя внутри государства, ограничиваемого смысловым контуром «этнической территории». Подобное практикуется и в Российской Федерации, соединяясь с требованиями придания приоритетного значения этнической идентичности (как таковой либо в определенном «срезе») над национальной. К актуальным примерам относятся попытки политизации крымско-татарской, ряда северокавказских и финно-угорских идентичностей в рамках государственной политики [14; 15; 16; 17; 18; 19].
В радикальных проявлениях политизация этничности связана с борьбой за автономность существования этнополитического субполя, этнонационализмом и сепаратистскими действиями, в контексте чего происходит дезинтеграция общей национальной идентичности, ведущая к кризису легитимности. Несмотря на влияние глобализации [20, с. 519–521], государство остается единственной объективно признаваемой формой сосредоточения и легитимации политической власти, а понятия «государство» и «нация» совпадают друг с другом [21, с. 95]. Однако распад национальной идентичности, «надстроенной» поверх субнациональной этнической, сводит на нет способность государства объективировать борьбу агентов в пределах общего пространства политических отношений. Таким образом, отступая либо прибегая к спорным силовым действиям, государство открывает для этноцентрически ориентированных сторон политической борьбы перспективу установления источника легитимности, связанную с наделением частной этнической идентичности решающим политическим значением. Последнее, становясь базовым принципом видения и конституирования конкретного сообщества, объективируется при строительстве (символическом «восстановлении» или создании) новой государственности, обоснование которой складывается с использованием исторических, моральных и (или) юридических аргументов.
Следует отметить, что легитимность агентов политического поля в новых, как правило, ограниченно признаваемых государствах зависит от способности обеспечивать непрерывность действия актуализированной ими ранее политической стратегии строительства нации, что способно приводить к так называемому «эффекту колеи» (path dependency). Вместе с тем этническая идентичность не может стать полноценно национальной без преодоления противоречий и конфликтов, возникающих вследствие трансформации условий накопления экономического, политического и культурного капитала в обществе. В контексте политической стратегии национального строительства последние решаются либо через поиск консенсуса, либо путем дискриминации (преследования по групповому признаку, ограничений или отказов в предоставлении гражданских прав, запретов на создание политических организаций определенного типа, насильственных переселений, этнических чисток). В целом новые нации-государства возвращаются к полисной модели устройства с приоритетным вниманием к родовой («кровной») идентичности, тогда как этничность, использовавшаяся в качестве основания для преобразовательной политики, становится неприкосновенным политическим фетишем.
Исходя из этого, к практическим выводам для современных государств, сталкивающихся с проблемой политизации этнической идентичности, нужно отнести следующие.
-
1. Развитие гражданской (общенациональной) политической культуры имеет первостепенное значение, поскольку способствует целостности восприятия политического процесса, придает однородность и синхронность ориентациям разных социальных групп, не приводя к актуализации их частных аспектов.
-
2. Все формы этнизации государственной политики могут усиливать этнополитический компонент в действиях представителей групп, на которых данная политика направлена, что в перспективе задает условия для политизации указанной формы идентичности. Нормативное закрепление особого статуса этносов потенциально способствует гетерогенности в развитии политического сознания.
Ссылки:
-
1. Пантин В.И., Лапкин В.В. Этнополитические и этносоциальные процессы на постсоветском пространстве (на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины) // Полис. 2015. № 5. С. 75–93.
-
2. Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 157–166.
-
3. Калхун К. Национализм. М., 2006.
-
4. Низамова Л.Р. Сложносоставная концепция модерной идентичности: пределы и возможности теоретического синтеза // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. XII, № 1. С. 141–159.
-
5. Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе: новые подходы, старые мифы, социальные практики // Вестник Института социологии. 2010. № 1. С. 429–442.
-
6. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Начала. М., 1994. С. 181–207.
-
7. Бурдье П. Формы капитала // Классика новой экономической социологии. М., 2014. С. 293–315.
-
8. Laclau E. The Impossibility of Society // Canadian Journal of Political and Social Theory = Revue canadienne de théorie politique et sociale. 1983. Vol. 7, no. 1–2. P. 21–24.
-
9. Бурдье П. Социальное пространство ... С. 205.
-
10. Там же. С. 201–202.
-
11. Там же. С. 199.
-
12. Бурдье П. Описывать и предписывать. Заметка об условиях возможности и границах политической действенности [Электронный ресурс] // Логос. 2003. № 4–5 (39). С. 33–41. URL: http://ruthenia.ru/logos/number/39/03.pdf (дата обращения: 01.04.2016).
-
13. Там же. С. 36.
-
14. Обращение Меджлиса крымско-татарского народа в связи с нарушениями прав человека и крымско-татарского народа в Крыму [Электронный ресурс]. URL: http://qtmm.org/новости/4545-обращение-меджлиса-крымскотатарского-народа-в-связи-с-нарушениями-прав-человека-и-крымскотатарского-народа-в-крыму (дата обращения: 01.04.2016).
-
15. Об угрозе закрытия независимых крымско-татарских СМИ в Крыму [Электронный ресурс] : заявление Меджлиса крымско-татарского народа. URL: http://qtmm.org/заявление-меджлиса-крымскотатарского-народа-об-угрозе-
закрытия-независимых-крымскотатарских-сми-в-крыму (дата обращения: 22.04.2016).
-
16. Ажахов К.М. Обращение Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) к президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву [Электронный ресурс]. 2009. 10 марта. URL: http://mcha.kbsu.ru/m_Obr1.htm.html (дата обращения:
22.04.2016).
-
17. Ажахов К.М. Руководителям общественных Организаций «Адыгэ Хасэ», входящим в состав МЧА [Электронный ресурс]. 2010. 5 окт. URL: http://mcha.kbsu.ru/m_Obr1.htm.html (дата обращения: 22.04.2016).
-
18. Шабаев Ю.П., Шилов Н.В., Садохин А.П. «Финно-угорский мир»: миф, макроидентичность, политический проект? // Общественные науки и современность. 2010. № 1. С. 147–155.
-
19. Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Дискурс этнической и гражданской идентичности. Финно-угорский мир России в материалах переписи 2010 г. // Полис. 2013. № 3. С. 113–125.
-
20. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, Дж. Перратон. М., 2004.
-
21. Мартьянов В.С. Строительство политической нации и этнонационализм [Электронный ресурс] // Логос. 2006. № 2 (53). С. 94–109. URL: http://ruthenia.ru/logos/number/53/07.pdf (дата обращения: 23.04.2016).
Список литературы Общетеоретические аспекты политизации этнической идентичности (на основе концепции П. Бурдье)
- Пантин В.И., Лапкин В.В. Этнополитические и этносоциальные процессы на постсоветском пространстве (на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины)//Полис. 2015. № 5. С. 75-93.
- Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе//Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 157-166.
- Калхун К. Национализм. М., 2006.
- Низамова Л.Р. Сложносоставная концепция модерной идентичности: пределы и возможности теоретического синтеза//Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. XII, № 1. С. 141-159.
- Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе: новые подходы, старые мифы, социальные практики//Вестник Института социологии. 2010. № 1. С. 429-442.
- Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть//Начала. М., 1994. С. 181-207.
- Бурдье П. Формы капитала//Классика новой экономической социологии. М., 2014. С. 293-315.
- Laclau E. The Impossibility of Society//Canadian Journal of Political and Social Theory = Revue canadienne de theorie politique et sociale. 1983. Vol. 7, no. 1-2. P. 21-24.
- Бурдье П. Социальное пространство.. С. 205.
- Бурдье П. Описывать и предписывать. Заметка об условиях возможности и границах политической действенности //Логос. 2003. № 4-5 (39). С. 33-41. URL: http://ruthenia.ru/logos/number/39/03.pdf (дата обращения: 01.04.2016).
- Обращение Меджлиса крымско-татарского народа в связи с нарушениями прав человека и крымско-татарского народа в Крыму . URL: http://qtmm.org/новости/4545-обращение-меджлиса-крымскотатарского-народа-в-связи-с-нарушениями-прав-человека-и-крымскотатарского-народа-в-крыму (дата обращения: 01.04.2016).
- Об угрозе закрытия независимых крымско-татарских СМИ в Крыму : заявление Меджлиса крымско-татарского народа. URL: http://qtmm.org/заявление-меджлиса-крымскотатарского-народа-об-угрозе-закрытия-независимых-крымскотатарских-сми-в-крыму (дата обращения: 22.04.2016).
- Ажахов К.М. Обращение Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) к президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву . 2009. 10 марта. URL: http://mcha.kbsu.ru/m_Obr1.htm.html (дата обращения: 22.04.2016).
- Ажахов К.М. Руководителям общественных Организаций «Адыгэ Хасэ», входящим в состав МЧА . 2010. 5 окт. URL: http://mcha.kbsu.ru/m_Obr1.htm.html (дата обращения: 22.04.2016).
- Шабаев Ю.П., Шилов Н.В., Садохин А.П. «Финно-угорский мир»: миф, макроидентичность, политический проект?//Общественные науки и современность. 2010. № 1. С. 147-155.
- Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Дискурс этнической и гражданской идентичности. Финно-угорский мир России в материалах переписи 2010 г.//Полис. 2013. № 3. С. 113-125.
- Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура/Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, Дж. Перратон. М., 2004.
- Мартьянов В.С. Строительство политической нации и этнонационализм //Логос. 2006. № 2 (53). С. 94-109. URL: http://ruthenia.ru/logos/number/53/07.pdf (дата обращения: 23.04.2016).