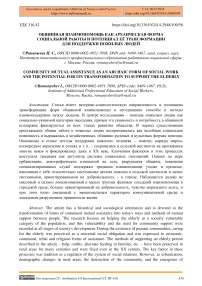Общинная взаимопомощь как архаическая форма социальной работы и потенциал её трансформации для поддержки пожилых людей
Автор: Романычев И.С.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 12 т.10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья имеет историко-социологическую направленность и посвящена трансформации форм общинной взаимопомощи в сегодняшние способы и методы взаимоподдержки между людьми. В центре исследования - помощь пожилым людям как социально-уязвимой категории населения, причем эта уязвимость и потребность в общинной поддержке фиксируются на всех этапах развития общества. В период существования крестьянских общин забота о пожилых людях воспринималась как всеобщая социальная повинность и выражалась в хозяйственных, общинно-родовых и культовых формах помощи. Описанные в статье методы поддержки пожилого человека - помочи, наряды миром, поочередное кормление в семьях и т. п. - сохранялись в сельской местности на протяжении многих веков и фиксировались даже в XX веке. Ключевым фактором в этих процессах выступала традиция как регулятор системы социальных отношений. Однако по мере урбанизации, демографических изменений на селе, разрушения общины, появления специализированных служб поддержки традиции взаимопомощи уходят в прошлое, напоминая о себе относительно системными актами помощи в сельской местности и менее системными, ориентированными на добровольность - в городе. Наблюдается далеко не массовый и сильно локализованный в малых группах феномен соседской взаимопомощи в городской среде, больше ориентированый на добровольность, чувство морального долга, и при этом тесно связанный с эмоциональным характером коммуникативной среды и локальным разрушением приватности жизни.
Община, взаимопомощь, помощь, крестьянин, русь, село, реципрокность, социальная работа, соседи, пожилой человек
Короткий адрес: https://sciup.org/14131748
IDR: 14131748 | УДК: 316.42 | DOI: 10.33619/2414-2948/109/58
Текст научной статьи Общинная взаимопомощь как архаическая форма социальной работы и потенциал её трансформации для поддержки пожилых людей
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 316.42
В истории отечественной социальной работы, в части изучения архаических и наиболее древних форм помощи пожилым людям наиболее часто встречается такое понятие, как «общинная взаимопомощь». Под ней, как правило, подразумевается оказание поддержки наиболее уязвимым членам сообщества, которые по объективным причинам не могли позаботиться о себе самостоятельно. Главная особенность этого социального феномена — распределение ответственности за наиболее слабых и уязвимых людей между всеми членами общины. Данное явление осмысляется историками, причем специализирующимися на изучении не только дохристианской Руси, но и более поздних периодов – вплоть до первой половины XX века. Однако общинная взаимопомощь представляет интерес и с точки зрения социологии, особенно в контексте изучения современных форм взаимодействия людей, объединённых какой-либо локацией, в части перерождения и сохранения традиций взаимопомощи человеку в условиях жизненных трудностей. Данная статья носит историкосоциологический характер и направлена на анализ феномена сохранения каких-либо проявлений общинной взаимопомощи, в первую очередь по отношению к пожилым людям в сегодняшних сообществах.
Под общиной традиционно понимается сообщество индивидов, объединённых близостью проживания, зачастую — схожим характером хозяйственной деятельности, религиозными традициями и иными «маркерами единства». Исторически это понятие в большинстве случаев употребляется по отношению к крестьянским сообществам, с незапамятных времен характеризующимся высоким уровнем внутренней скрепленности. Именно среди участников этих макрогрупп, проживающих, например, в одной деревне, сильно были представлены традиции взаимопомощи и взаимоподдержки, высокий демонстрируемый уровень религиозности, стремление к сохранению единства ценностных ориентаций, распределительные и дарственные акты (в строго научной терминологии — реципрокные и редистрибутивные отношения). В общине наиболее явно была представлена общность быта, схожесть ежедневных социально-бытовых, хозяйственных функций. В известной степени присутствовала сакрализация (одухотворение или обожествление) земли как главной кормилицы. Вместе с тем, во все времена в общине присутствовала естественная возрастная дифференциация, подразумевающая наличие как детей, так и пожилых людей. А поскольку данным возрастным категориям всегда была присуща относительная социальная уязвимость, именно община выступала главным охранителем наиболее слабых и не совсем благополучных участников, не позволяя качеству их жизни снижаться до социально неприемлемого уровня. Выражалось это в массе актов общинной взаимопомощи, с одной стороны — ассоциированных с традицией, с другой — имеющих определённую рациональную направленность.
Стоит заметить, что параллельно с общинной взаимопомощью в сообществах присутствовала родоплеменная взаимопомощь и взаимоподдержка. Это помощь родственников, причем как близких, так и дальних. Здесь имела место сакрализация «чувства крови», кровной принадлежности к роду. При потере пожилым человеком близких родственников (взрослых детей, малолетних внуков) первичная ответственность за помощь могла возлагаться на братьев и сестер, племянников, двоюродных братьев и т. п., которые имели свои семьи, но должны были заботиться и о лишившемся семейной поддержки пожилом сородиче. Есть предположение, что традиции родоплеменной помощи просуществовали чуть дольше, чем общинная взаимопомощь, и местами могут наблюдаться и сегодня. Сейчас этот феномен в первую очередь связывается с развитостью семейных ценностей, которые, однако, надо отличать от родовых.
Говоря о проблематике пожилых людей в контексте общинной взаимопомощи, необходимо её структурировать, в первую очередь исходя из биопсихосоциального подхода. Безусловно, разделение проблем по линии «физиологические – материальные – психологические – коммуникативные» является весьма условным, так как, например, при анализе психологических проблем можно увидеть явное смешение вопросов здоровья, благосостояния и потребления, окруженности вниманием, психологической атмосферы в микросоциуме (семье), чувства принадлежности. При рассмотрении социальной проблематики пожилых людей в историческом разрезе, в частности, при их проживании в крестьянской общине, следует упомянуть несколько важных моментов. Во-первых, средняя продолжительность жизни крестьян как демографического большинства в России вплоть до начала XX века не достигала 40 лет, при этом в аграрной среде присутствовала высокая рождаемость. Следовательно, уровень демографической старости населения был явно не 25%, как сегодня, а гораздо меньше. Пожилые представляли собой не слишком большую группу населения, следовательно, фокус общественного внимания к социальным проблемам, вероятнее всего, касался не положения пожилого человека в обществе, а сиротства, вдовства, эпидемий, голода в неурожайные периоды. Во-вторых, феномен старческой немощности несколько столетий назад мог касаться людей уже в возрасте 50-60 лет, поскольку гораздо более низкий уровень медицины, неспособность бороться со многими заболеваниями, а также изнашиваемость организмов при интенсивном физическом труде (который нельзя путать с физкультурой) могли провоцировать более ранее физическое старение. В-третьих, принадлежность пожилого человека к общине играла, безусловно, позитивную роль в плане ощущения защиты, уверенности в сторонней помощи, а также востребованности жизненного опыта. Это особенно важно для аграрных обществ, где возраст по сути равняется опыту, так как пожилой человек застал большее количество годовых природных циклов. Он лучше может знать народные приметы, специфику выращивания тех или иных растений, особенности ухода за животными. Также именно аграрные общества, в отличие от индустриальных, склонны саморегулировать свою жизнедеятельность традициями и обычаями, аппелировать к прошлому как ориентиру, а именно пожилой человек является главным хранителем знаний и накопленного социального опыта.
Научное осмысление и систематизация отечественного исторического опыта социальной работы началось относительно недавно — в начале 1990-х годов. Именно тогда, с появлением профессиональной социальной работы, обострилась потребность в изучении форм и методов оказания помощи человеку, пребывающему в состоянии дефицита ресурсов. Впервые появляются учебники и монографии по истории социальной работы в России, защищаются диссертации по исторической тематике поддержки наиболее уязвимых и обездоленных. Тогда же с социологических позиций осмысляются феномены перерождения старых форм помощи в современные методы социальной работы. В отношении архаического периода социальной работы, а именно периода до Крещения Руси, высказываются мнения, что именно этот период предопределил зарождение и становление общинной взаимопомощи, формы которой сохранялись вплоть до XX века. В научном сообществе данные формы были поделены на три группы – культовые (сакральные), общинно-родовые и хозяйственные. Практически все они в той или иной мере касались оказания поддержки (постоянной или разовой) лицам в том числе и пожилого возраста. И именно в анализе этих форм прослеживается главная идеологема общинного сосуществования людей друг с другом — ответственность всех за всех, недопущение «выталкивания» человека из лона общинной заботы. Это можно объяснить, в первую очередь, глубинным пониманием каждого члена общины, что беда может случиться с каждым, в том числе и с ним лично, и помогая сегодня кому-либо, ты поддерживаешь систему социальных норм, завтра сыграющих в твою пользу.
Культовые формы помощи были представлены целой системой ритуалов, связанных с рождением человека, созданием семьи, лечением болезней, отпеванием. В этой системе огромную роль играли идолы, обереги и иные предметы культа, которые, как считалось, несли в себе магическую помогающую силу. Однако при подробном рассмотрении ряд культовых форм помощи нес выраженный социально-экономический эффект, позволяя членам общины распределять между собой общественный продукт, в первую очередь питание. Так, в праздники, посвящённые богам (а после христианизации — святым), общинники устраивали братчины — совместные трапезы, на которые приглашались все члены общины [5, с. 69]. При этом среди них были и те, кто по причинам старости или болезни давно не принимал участие в создании общественного продукта – не возделывал землю, не выращивал животных. Налицо феномен общественной милостыни, имеющий не только экономическое, но и символическое значение — знак поддержания принадлежности человека к общине, даже при отсутствии экономического эффекта от его пребывания в данной группе. Здесь же и правило «не смотреть в чужую тарелку», не осуждать, если человек съест больше, чем кто-либо другой — это должно определяться только его потребностями. В отношении пожилого человека должно было присутствовать осознание, что когда-то и он принимал участие сельхозработах, растил детей, помогал другим, а потому сегодняшнее место за столом также ему принадлежит по праву. Феномен братчины олицетворяет модель реципрокно-редистрибутивных отношений, призванный содействовать более справедливому в социальном аспекте распределению общественных благ.
Стоит отметить, что праздничные дни в общинах в принципе служили внутренней распределительной политике. Ещё в XIX веке фиксировалось, что помимо 80-и официальных праздников в отдельных местностях их количество могло достигать 150 в год, и по сути, чередоваться с разницей в день. Поэтому праздники создавали серьезное подспорье в распределении материальных благ между общинниками [5, с. 70]. Немаловажно, что на праздники приглашались нищие, странники, традиционно считавшиеся «божьими людьми». Также отдельную роль в реципрокно-редистрибутивных отношениях играли поминальные трапезы – тризны, которые мог посетить каждый и воздать долг поминовения умершему члену общины. Богоугодным делом считалось отнести порцию еды с поминального стола пожилому или увечному человеку, который не может сам присутствовать на тризне. В целом эти традиции были призваны служить сохранению некоего мирского порядка, устоявшейся системы отношений, и удачно вписывались в решение вопросов помощи нуждающимся.
Общинно-родовые формы помощи были призваны помочь жизнедеятельности наименее защищённых членов общины, среди которых, помимо сирот и вдов, также были пожилые люди. В качестве поддерживающего фактора общинно-родовой помощи выступала вервь — круговая порука. Однако первичная обязанность помощи пожилым людям, естественно, лежала на родственниках — сначала близких (собственно, на семье), а при их отсутствии — дальних. Одной из форм помощи одинокому пожилому человеку мог быть специальный отвод земли, выделение «косячка», в основном для заготовки сена. Пожилого человека, неспособного обслуживать себя, могли определить на «постой» в семью, причем на разные сроки – от суток до нескольких недель, после чего он переходил в другую семью [6, с. 19]. Поочередное кормление пожилых в семьях сохранялось на севере России до конца XIX века.
Интересным вариантом поддержки пожилого человека было селение на погосте – в местности, располагавшейся недалеко от расселения общины. Пожилой человек продолжал быть окруженным заботой людей, которая в основном выражалась в систематических подаяниях [3, с. 45]. Подобная форма помощи фиксировалась в источниках вплоть до конца XVI века. И стоит отметить, что традиции подаяния или милостыни традиционно считаются крайне закрепившимися в общественном сознании восточных славян. Именно эта особенность предопределила идеологию «нищелюбия», почитания за честь подать милостыню просящему. Здесь также прослеживается система закономерностей, предопределивших формирование такой особенности: бескрайние просторы и, как следствие, почитание странников, «калик перехожих», необходимость помогать им подаянием; политика князей-благотворителей, активно подававших милостыню и стремящихся упрочить народное доверие; рискованное земледелие и высокая опасность неурожаев, зимне-весеннего голода, актуализирующих подаяния, и многое другое. Не секрет, что традиции нищелюбия, в свою очередь, спровоцировали развитие профессионального нищенства, наблюдающегося и в наши времена. Однако подаяние члену общины и подаяние незнакомому человеку – явления неодинаковые. В первом случае общинники изначально были осведомлены о его проблематике – неспособности позаботиться о себе, вырастить урожай, починить дом, а потому были более уверены, что данная помощь справедлива в социальном плане и доходила до реально нуждающегося человека. Более того, община стояла на страже «помощи своим», сохраняла пребывание человека в общине, не отторгала его, при этом фиксируя подаяние пожилому или увечному человеку как всеобщую социальную повинность.
Наконец, распространённой формой общинно-родовой помощи, тесно связанной с поддержкой пожилых людей, было усыновление сирот. Ребенок-сирота принимался в дом пожилой супружеской пары (или одного человека), не имевшей своих детей. Ребенок становился им родным, помогал по хозяйству, заботился о них в случае болезни, взамен они выполняли роль родителей, передавали социальный опыт, воспитывали его и заботились о нем. В дальнейшем он наследовал их дом, где мог создать свою семью. Налицо бинарное решение социальной проблемы — избавление от сиротства, с одной стороны, и от одинокой неустроенной старости — с другой. В целом община, как никакой другой социальный институт, остро чувствовала систему потребностей человека вне зависимости от возраста и проявляла склонность к рациональному решению комплексной социальной проблематики.
Хозяйственные формы помощи в общинах служили справедливому перераспределению экономико-бытового ресурса — от выращенного урожая до физической силы. Одним из центральных методов в этом направлении были помочи — совместная крестьянская работа в помощь кому-либо. Помочи выражались в совместной уборке и перевозке урожая, совместном использовании тягловой силы (лошадей, быков), совместном строительстве дома для члена общины. Стоит оговориться, что эти виды работ необязательно касались уязвимых членов общины — помогать необходимо было всем и каждому, в том числе и при временной нуждаемости. Неоценима роль помочей при стихийных бедствиях — наводнениях и пожарах. Зависимость сельской общины от сил природы оставалась весомым фактором, располагающим к фиксации взаимопомощи как обязательства всех перед всеми. Зачастую помочи сопровождались взаимным даром – в обмен на работу общинники получали какое-либо угощение, однако это могло касаться только случаев помощи семье, имевшей достаточно ресурсов для самообеспечения. Особой формой поддержки были «наряды миром» – когда несколько членов общины посещали семью, где «работные люди больны», и комплексно помогали по хозяйству — растапливали печь, готовили еду, присматривали за детьми, подметали пол, ухаживали за скотиной. Если же речь шла о наиболее уязвимых членах общины – вдовах, сиротах, пожилых людях — помочи сопровождались выделением за счёт общины необходимого инвентаря, дров, сена, зерна [5, с. 81].
В том или ином виде помочи фиксировались в даже в 1960-е годы в селах, наиболее отдалённых от районных центров и крупных городов. Формирование и поддержание традиций соседской взаимовыручки — важнейшая отличительная черта общины, постепенно уходящая в прошлое при урбанизации, социально-экономическом расслоении на селе, потере возрастного демографического баланса, появлении специализированных служб помощи и воздействии многих других факторов.
Обсуждение причин утраты традиций взаимопомощи между людьми ведется в общественных науках с конца XIX века. Именно в это время, в разных странах с разных временных периодов идут процессы урбанизации — переселения людей из сел в города. В первую очередь это связано с развитием индустриального труда на промышленных предприятиях, вокруг которых зачастую и создавались новые города. Отток молодежи из села, растянувшийся на весь XX век, приводил и приводит к демографическому старению сельского социума.
Однако в данном случае необходимо разделить проблему на две составляющие — проблему сохранения общинной взаимопомощи в демографически изменившемся селе и проблему сохранения традиций взаимопомощи в городской среде. В первом случае можно констатировать, что традиции общинной взаимоподдержки склонны оставаться актуальными и при параллельно идущей урбанизации (пример с фиксацией помочей во второй половине XX века). Однако к ряду существенных оговорок можно отнести следующие две. Во-первых, в течение последних ста лет изменился возрастной демографический баланс сельской среды (речь в первую очередь о Центральной России). При росте доли пожилого населения в общей возрастной структуре неминуемо снижается доля молодежи как наиболее физически сильного и активного сообщества. Это не может не приводить к дисфункции в осуществлении тех же помочей — количество (и доля) нуждающихся (например, пожилых) растёт, а количество (и доля) потенциально могущих помочь снижается. Правда, необходимо учесть, что в связи с механизацией снижается и уровень физической тяжести обработки земли, а в связи с автомобилизацией снижаются временные затраты на перемещение и перевозку. Во-вторых, традиции взаимопомощи долгое время были фактором, сдерживающим социально-экономическое расслоение на селе. Далее с конца XIX века и до начала 1930-х годов на селе действует кулачество как сельская буржуазия, первой спровоцировавшая серьезный экономический разрыв в доходах между крестьянами, тем самым поколебав общинные устои «справедливого равенства». Затем с 1930-х по 1980-е годы колхозно-совхозный способ аграрного производства в целом более вписывался в традиционный общинный уклад, чем кулацко-батрацкие отношения. В этот период относительное «общинное равенство» могло поддерживаться в том числе и взаимопомощью, при сохранении ценностных ориентаций крестьянства. Однако перемены 1990-х годов, не самым приятным образом сказавшиеся на сельскохозяйственном секторе, подвели российское село одновременно к патологическим демографическим утратам, росту расслоения между трудящимися аграрного сектора (данный сектор лидер по внутреннему разрыву в оплате труда), а также тенденции «домостроительства» на селе без включения хозяина дома в сельскую общину. Это может говорить о распаде традиционной сельской общины с сохранением рецидивов крестьянской взаимопомощи, благодаря которой, в сущности, до сих пор на селе осуществляется неофициальная социальная работа с наиболее нуждающимися людьми.
Что же касается городской среды, то в первую очередь нельзя не согласиться с тем, что урбанизация разрушает традиционную общину, и что немаловажно, общинную систему взаимодействия. В городе человек более закрыт от социального контроля, может вести более приватный образ жизни. Он занимается преимущественно не сельскохозяйственным, а индустриальным трудом, или же более интеллектуализированными видами труда. Это делает его менее зависимым от сил природы, следовательно, он уже не ощущает потребность в единении с окружающими перед лицом, например, неурожаев. Городские жилища, особенно на более поздних этапах (XIX-XX века), представляют собой фонд, менее уязвимый перед пожарами, а расселение людей в жилом фонде (особенно на этапе перехода от коммунальных квартир к отдельным квартирам) характеризуется большей зрительной закрытостью жизнедеятельности индивида. Социально-экономическое расслоение в городе носит более выраженный характер, хотя оно же и может характеризоваться приватностью. Человек, скорее, более включен в систему профессионального взаимодействия, больше поддерживает отношения внутри профессионального сообщества, чем с соседями.
В городе труд отделен от воспитания детей, а потому родители в рабочее время находятся на предприятиях и в учреждениях, а их дети воспитываются в детских садах и школах. Этого нельзя сказать об аграрном прошлом, когда ребенок приучался к труду именно в семье, при ведении натурального хозяйства или при общинных сельхозработах, что создавало особую модель семейно-трудового воспитания. В городе более выражены «разные пути» индивидуального развития, когда кто-то выбирает длительное получение образования и самореализацию в интеллектуальной сфере, а кто-то может ограничиваться малоквалифицированным физическим трудом. Большая дифференциация статусов, разрыв в доходах и культурном капитале, отсутствие единых моральных норм и контроля за их соблюдением, закрытость «образа жизни» порождает рост преступности, проституции и иных социальных явлений, которые с традиционных социально-культурных позиций рассматриваются как пагубные. Наконец, в городской среде высока вероятность распада родоплеменных отношений, когда, например, братья и сестры, бабушки и внуки могут в принципе не поддерживать друг с другом отношения или же практиковать модель «дежурноотдаленного» общения (формальные поздравления с праздниками, встречи по редким поводам – дни рождения или похороны родственников и т. п.) Но главное, что принципиально вписывается в предметную область данной статьи — в городе разрушается традиция. Именно традиция, которая должна воспроизводиться многочисленными примерами старших перед младшими и поддерживаться контролем социума. Поэтому не случайно то, что помимо всех прочих традиций, связанных с праздниками, обычаями или реагированием на проблемные ситуации, в прошлое стала уходить традиция взаимопомощи.
В качестве примера фундаментального освещения данного вопроса можно привести концепцию немецкого социолога Фердинанда Тенниса, который очень обстоятельно описал переход от допромышленного к современному обществу. Это своеобразный путь от «Гемейншафт» (Gemeinschaft) к «Гезельшафт» (Gesellschaft), что можно перевести как от «общины» к «обществу». Ф. Теннис описал разрушение традиций взаимопомощи и актуализацию личных интересов индивида, нивелирование традиций и возвышение формального закона, снижение значимости семейных и родоплеменных ролей и усиление влияния профессионального статуса, деградацию религиозных норм и эскалацию светских ценностей. Данные изменения в целом коснулись всех обществ, где произошел переход от аграрной экономики к индустриальной, однако в той или иной стране могут наблюдаться различные особенности этих трансформаций, выражаемые в их скорости, степени фиксации родоплеменных отношений, уровне формализации религиозных институтов и т. п.
В сегодняшней городской среде отголоски общинной взаимопомощи могут проявляться в актах соседской или неофициально-корпоративной взаимоподдержки, которые в большинстве неформализованы, не являются прямой обязанностью, тесно связаны с высоким уровнем эмпатии, наличием такого ценностного механизма, как совесть, а также ранее сложившимися отношениями. В случае с соседской взаимопомощью главным признаком объединения людей является локализация на территории проживания, в случае с неофициально-корпоративной – совместный труд в коллективе. Второй тип, на взгляд автора, чаще встречается как формализованный, особенно в ситуациях помощи пожилым работникам учреждения или предприятия. Так, вопросами разовой или постоянной помощи пожилому человеку – бывшему сотруднику — призваны заниматься ветеранские объединения, которые, как правило, имеют связи с организациями социальной защиты, здравоохранения, иногда – с благотворительными фондами и иными некоммерческими объединениями. В среде ветеранских организаций быстро распространяется информация о тяжелом положении какого-либо бывшего коллеги, что инициирует работу по поиску ресурсов – привлечении государственных и негосударственных организаций к помощи нуждающемуся, посещении его членами ветеранского объединения и оказании социальнобытовой помощи (покупка продуктов, уборка квартиры, вызов врача и т. д.).
Также нередки случаи поддержки пожилого коллеги бывшими сотрудниками, без придания этим действиям формального характера. Это может идентифицироваться как маркеры своеобразного перерождения общинной взаимопомощи, при которых эта взаимопомощь давно не является обязательной повинностью. Однако в случаях с соседской взаимоподдержкой появляется больше пищи для размышлений, так как сегодняшние соседи, по идее, не были объединены длительной совместной деятельностью, не имеют общих воспоминаний, а иногда просто могут не знать имени и отчества друг друга. Тем не менее, феномен соседской взаимопомощи встречается и сегодня.
Так, в исследованиях О. Бердниковой предлагается рассматривать два вида взаимодействий между соседями: поверхностные рутинные взаимодействия (приветствия и короткие разговоры) и вовлеченные коммуникации (конфликты или помощь). В первом случае соседи с помощью сиюминтутных, поверхностных и недолгих коммуникаций создают своеобразную коммуникативную среду, где у каждого соседа свой индивидуальный уровень вовлеченности. Во втором случае эмпирика демонстрирует наличие определенных практик взаимопомощи — полить цветы, покормить кота в период отсутствия хозяина, арендовать стулья для приема гостей, помочь поднять по лестнице тяжелые вещи. Констатируется, что в соседской взаимопомощи ценится принцип «здесь и сейчас», в то время как обращение в специализированные службы помощи заняло бы время, а возможно, и потребовало бы затрат. Исследователь оценивает эти отношения именно как реципрокность, поскольку в их рамках производится обмен дарами, услугами. При этом подобные отношения не рассматриваются соседями как рыночные, а скорее помещаются в пространство морального. Однако предполагается, что, если соседи оказывают какие-либо услуги за деньги — тем самым они своеобразно управляют близостью и дистанцией в отношениях между собой. Имеет место своеобразная балансировка между солидарностью и отчуждением [1, с. 109-115].
В то же время, по мнению О. Бердниковой, данные отношения не совсем реципрокны, поскольку практически не включают в себя чувство долга и взаимной ответственности. Правом соседа остаётся избегать или отказываться от помощи. В этой связи хотелось бы вспомнить о сегодняшнем чувстве независимости людей друг от друга, перекладывании ответственности за человека на различные службы и сервисы, уединении в узком мире своей семьи без внимания к иным проживающим рядом субъектам – что, возможно, отличает сегодняшнюю систему соседских отношений от отношений в традиционной общине. Поэтому важным аспектом остаётся феномен «моральности» в отношениях с соседями, для «включения» которой необходимо проникновение в личную историю соседа [1, с. 116].
Именно осведомленность о жизненных ситуациях соседей может выступить отправной точкой рассмотрения возможности односторонней помощи соседа соседу. В том же исследовании фиксируется, что в сознании жильцов формируется феномен «нуждаемости» соседей – отнесение их к неблагополучным социальным группам, вызывающим сочувствие и желание помочь. В случаях целенаправленной помощи нуждающимся соседям прослеживается личностное конструирование себя – со стороны помогающего, и использование, потребление соседского ресурса – со стороны принимающего помощь. Цитируя автора, «…реципиент использует сценарий интенсивного соседства, активно используя соседские сети и связи» [1, с. 116].
Трудно не согласиться с тем, что необходимость в интенсивном соседстве свойственно конкретному индивиду, в первую очередь, в контексте системы потребностей – быть нужным или принимать помощь. Важным отличием от архаических форм взаимопомощи здесь остаётся отсутствие массовости, локализованность феномена помощи между конкретными людьми без интенсивного включения в эту среду иных, рядом проживающих, субъектов. Также важной отправной точкой в развитии сегодняшних феноменов помощи и взаимопомощи является интенсификация общения с донесением информации о жизненной ситуации, проблемах, личных переживаниях, то есть трансляция «личных историй». Это, своего рода, создание собственного образа нуждающегося, с фиксацией этого образа в сознании соседей. В исследованиях К. А. Галкина рассматриваются неформальные, соседские сети поддержки пожилых людей, проживающих на селе. Как было сказано выше, сегодняшнее село и экономически, и демографически отличается от традиционных сел-общин, однако интерес представляет наличие и воспроизводство форм соседской помощи в ситуации нуждаемости какого-либо участника сообщества. Таковым в рассматриваемом исследовании выступает пожилой человек в период обострения хронического заболевания. Фиксируются акты соседской помощи пожилым людям в быту — сходить в магазин, принести воду из колонки, отвезти на машине в поликлинику, заготовить дрова, выбросить крупный мусор. Просьбы выполняются, как правило, бескорыстно, однако в летнее время пожилой человек может поделиться чем-либо с огорода или пригласить на праздник по случаю, например, приезда родственников. Жители сел отмечают, что подобный символический обмен только помогает укреплять отношения между соседями и желание помогать. Также констатируются случаи, когда при выполнении дел, требующих участия многих людей, инициируется приглашение большого количества жителей села, благодаря чему данные работы выполняются сравнительно быстро (представленная в исследовании история с перестановкой мебели в доме пожилой женщины) [2, с. 16-17].
Важным моментом в исследовании К. А. Галкина остаётся аппеляция к инфраструктурному дефициту, низкому качеству дорог на селе, что выступает своеобразным вынужденным стимулом к объединению жителей для решения какой-либо проблемы. Также, пусть и на уровне одного села, в исследовании отражаются факты обхода селянами пожилых людей, вследствие чего односельчане узнавали о состоянии здоровья пожилого человека и предлагали какую-либо помощь. Среди иных присутствующих на селе видов поддержки пожилых людей в состоянии болезни — вызов скорой помощи с сопутствующим ожиданием, помощь лекарствами по принципу «другому нужнее», поверхностная терапевтическая помощь в период обострения болезни, помощь по хозяйству в период маломобильности пожилого человека, полноценное ведение домашнего хозяйства в период пребывания хозяина в больнице, помощь в передвижении на прогулке и т. п. [2, с. 20-23].
При этом даже на селе нельзя отрицать наличие возмездной или платной помощи. В том же исследовании упоминается о случаях платы за уход в отношении пожилого человека, при этом инициатором платы становился сам пожилой человек [2, с. 18]. Эти случаи не отрицают реципрокность отношений, так как и здесь присутствует взаимообмен. Более того, углубившись в историю, можно проследить, что крестьянские общины, как правило, не имели денежного фонда, как и не имели наличных денег большинство семей, живших натуральным хозяйством. До начала XX века денежный оборот в основном присутствовал в городской зоне и, возможно, в близлежащих к городам селах. Натуральный обмен долгое время оставался единственным способом поддержания материальной реципрокности. При появлении денег в обороте селян в XX веке деньги вполне могли начать рассматриваться как инструмент обмена. Можно констатировать, что многие сегодняшние виды помощи пожилым на селе могут идентифицироваться как своеобразное наследие традиционных общинных форм взаимопомощи, ранее описанных в данной статье. Они исходят из восприятия статуса пожилого человека, традиционно высокого в аграрной среде, из общности быта и схожести проблем сельской повседневности, из сохраняющегося высокого уровня социального контроля по принципу «а что люди скажут» или «а как я в глаза людям смотреть буду» и многих других факторов, фиксирующих традиции взаимопомощи, взаимообмена, взаимораспределения. Ситуация в городской среде, безусловно, выглядит несколько иначе, однако и в ней встречаются случаи соседской помощи или взаимопомощи. В силу ослабленного социального контроля, атомизации жизнедеятельности индивида, разрывах в образе жизни, высокого уровня приватности, переложения ответственности на социальные службы и иные сервисы помощь и взаимопомощь соседей в городе выглядит как нечто добровольное, сильно локализованное в парах-тройках индивидов, непостоянное, ситуативно обусловленное, и конечно, далеко не массовое. При глубине анализа этого явления просматривается высокая зависимость инициации помощи от потребности быть нужным, с одной стороны, и потребности получать помощь, с другой. При этом огромную роль здесь играет выстраивание между соседями первичной коммуникации с разрушением приватности жизни, допуском иного человека к своим мыслям, чувствам, переживаниям. Однако даже это не снижает ценности феномена соседской взаимопомощи, подчас способной быстро решить какую-либо проблему и укрепляющей психоэмоциональные связи между людьми. Поэтому вопрос перерождения и трансформации общинной взаимоподдержки должен рассматриваться не только в удручающем контексте безвозвратного крушения социальных связей, но и в контексте глубоких психологически обусловленных паттернов поведения, которые, возможно, были свойственны человеку на всех этапах развития социума, просто проявлялись в разном структурировании воспринимаемой действительности и разных направленностях в конструировании себя.
Список литературы Общинная взаимопомощь как архаическая форма социальной работы и потенциал её трансформации для поддержки пожилых людей
- Бредникова О. "Я с соседями совсем не общаюсь…": соседствование как рутинное взаимодействие // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2021. Т. 13. №2. С. 101-123. DOI: 10.25285/2078-1938-2021-13-2-101-123 EDN: JURXBU
- Галкин К. А. Соседская помощь и забота о пожилых людях с хроническими заболеваниями в периферийных поселениях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. №2. С. 7-30. DOI: 10.31119/jssa.2021.24.2.1 EDN: LPIIYM
- Жуков В. И. История социальной работы. М.: Изд-во РГСУ, 2020. 400 с.
- Свищева И. К. Генезис отечественной парадигмы социальной помощи нуждающимся: социокультурный анализ // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2013. №16. С. 290-299. EDN: RWUHJJ
- Фирсов М. В. История социальной работы: учебное пособие для высшей школы. М.: Академический Проект, 2020. 608 с. EDN: PGYKVV
- Холостова Е. И. История социальной работы в России. М.: Дашков и К, 2018. 282 с. EDN: XSXYLR