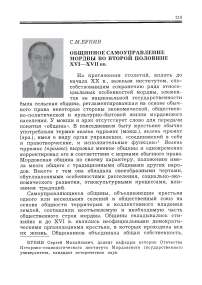Общинное самоуправление мордвы во второй половине XVI-XVII вв.
Автор: Букин Сергей Михайлович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 2 (55), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется мордовская крестьянская община, ее структура, механизм функционирования. Значительное внимание уделяется сообществу с точки зрения хранителя традиций национального государственного строя и общественно-правовых норм.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222937
IDR: 147222937
Текст научной статьи Общинное самоуправление мордвы во второй половине XVI-XVII вв.
На протяжении столетий, вплоть до начала XX в., важным институтом, способствовавшим сохранению ряда этносоциальных особенностей мордвы, элементов ее национальной государственности была сельская община, регламентировавшая на основе обычного права некоторые стороны экономической, общественно-политической и культурно-бытовой жизни мордовского населения. У мокши и эрзи отсутствует слово для передачи понятия «община». В повседневном быту крестьяне обычно употребляли термин веленъ пуромкс (мокш.), веленъ промкс (эрз.), имея в виду орган управления, «соединявший в себе и правотворческие, и исполнительные функции»1 Веленъ пуромкс (промкс) выражал мнение общины и одновременно корректировал его в соответствии с нормами обычного права. Мордовская община по своему характеру, положению имела много общего с традиционными общинами других народов. Вместе с тем она обладала своеобразными чертами, обусловленными особенностями расселения, социально-экономического развития, этнокультурными процессами, влиянием традиций.
Самоуправляющиеся общины, объединяющие крестьян одного или нескольких селений в общественный союз на основе общности территории и коллективного владения землей, составляли неотъемлемую и необходимую часть общественного строя мордвы. Общины складывались стихийно и до XVI в. являлись неофициальными демократическими организациями крестьян, в которых проходила вся их жизнь. Общинников объединяла общая собственность,
БУКИН Сергей Михайлович, доцент кафедры истории Отечества Историко-социологического института Мордовского государственного университета, кандидат исторических наук.
совместное производство, коллективная ответственность перед государством за налоги и преступления, совершенные на территории общины, правосудие, религиозная жизнь, потребность в защите, организация досуга, взаимопомощь и другие групповые интересы. В течение долгого времени (до середины XIX в.) крестьяне объединялись на уровне одного поселения (деревни, села) в деревенские общины, а на уровне нескольких поселений — в волостные общины, образующие административную единицу, — волость.
Волостные и деревенские общины имели одинаковое общественное устройство: непосредственные собрания всех членов общины (сходы), органы самоуправления во главе с выборными руководителями. Мордовские крестьяне считали, что сельский сход — нечто вроде сбора большой семьи, на котором советуются, как поступить в том или ином случае, тогда как на волостных сходах решение часто зависело от позиции волостной администрации. Взаимоотношения крестьянских дворов с мирским управлением регулировались нормами обычного права. Общественное самоуправление опиралось на дисциплинированность общинников.
Общинные собрания собирались раз в месяц. Летом они проводились на улице, обычно на площади, а зимой нанимали специальный дом «промкс куд» (эрз.), «пуромкс» (ве-ленъ) «куд» (мокш.). Время проведения схода для решения текущих вопросов назначалось заранее, о чем заблаговременно извещалась каждая семья. Иногда мир собирался экстренно, например, для решения внезапно возникшей проблемы, или в том случае, когда в село приезжало уездное начальство.
В сложных общинах проводились сходы — общие и частные (малые), в зависимости от степени важности рассматриваемых вопросов. Исследователь общины П.Якушкин предложил градацию сходов: казенные, мирские и судебные. На казенных обычно присутствовало уездное начальство, и вопросы решались чаще всего без учета мнения крестьян, которые в связи с этим старались избегать участия в таких мероприятиях. При этом крестьяне мотивировали свое поведение тем, что: «Снявши шапку, не много поговоришь! Какая это сходка? Соберутся, выйдет началь- ник, все шапки долой»2 Однако не всегда крестьяне молча выслушивали начальство, в некоторых случаях они выражали свое недовольство.
Малые сходы или «мирская сходка» затрагивала интересы всех крестьян. Здесь решались вопросы повседневной внутридеревенской жизни: разбирали мелкие конфликты, определяли место новой усадьбы, осуществляли частные земельные переделы, занимались семейными разделами и бытовыми ссорами. Обычно в сложных общинах земля распределялась для удобства землепользования между селениями, которые затем на малых мирских сходах наделяли угодьями отдельных домохозяев. На малых сходах обычно вопросы решались в пользу крестьян, обладавших большим влиянием среди общинников. «Мирские сходки, которые решались у них (у мордовских крестьян), общие дела и против которых они позволяли себе иногда восставать только шепотом и то мне на ухо, ... бывали иногда Шемякиным судом, — отмечал И.Селиванов, — Никто никого не слушал. Одерживали верх те, у которых голос был погромче... Тот, у кого больше денег, и тот, главное, кто при подушных „выручал мир“, то есть давал взаймы за большие прокаты (проценты), тот, разумеется, играл первую роль»3
Для раскладки податей, решения административных и общих хозяйственных дел созывался большой сход, на котором присутствовали все домохозяева, либо группы выборных, имеющие право голоса не только за себя, но и за некоторых своих односельчан. Такая практика иногда приводила к тому, что большие сходы принимали решения, о которых многие крестьяне маленьких деревень не знали.
Наряду с решением подобного рода вопросов на больших сходах осуществлялись выборы управленческого аппарата общины. Выборные являлись исполнительной властью в общине. С точки зрения местной администрации во всех вопросах, касающихся общественного порядка, налогов и повинностей, выборные должны были исполнять ее волю, в остальных вопросах крестьянской жизни — волю общины. Однако с точки зрения крестьян выборные должны были всегда и во всем служить общине и выполнять волю схода — общего собрания глав хозяйств. В сущности сход и олицет- ворял общину. На практике получалось так, что ни выборные, ни отдельный крестьянин ничего не могли предпринять без решения схода. Даже указания администрации, прежде чем реализоваться, должны были получить мирское согласие на сходе. Правительство сознавало силу схода и поэтому стремилось любыми средствами добиться от него одобрения своих указаний, особенно непопулярных у крестьян4 Таким образом, община обладала значительной автономией от местной власти, пользовалась самоуправлением и имела реальные средства отстаивать свои интересы.
Для управления общиной на мирском собрании избирался староста. Срок его службы в различных уездах, на территории которых проживала мордва, колебался от 3 до 5 лет. Главной обязанностью старосты являлся контроль над мирской казной. Кроме общего руководства общиной и председательствования на мирских сходах староста осуществлял надзор по управлению и ведению хозяйства. Он также следил за порядком в подведомственном ему селении, рассматривал мелкие судебные дела, разбирал несложные споры и тяжбы, имел право наказания виновных в мелких преступлениях. Старосты организовывали первую помощь при пожарах, наводнениях, падеже скота и других происшествиях. Они же обязывались предупреждать потраву хлеба, лесные пожары, порубки леса. Таким образом, староста сочетал в себе функции представительной власти, управленческого аппарата и полицейские полномочия. Мордва воспринимала старосту как слугу общества и одновременно как лицо, ответственное за сельский мир. Крестьяне не стремились участвовать в управлении общиной в качестве выборных лиц, поскольку их отталкивал принудительный характер общественного служения. Б.Н.Миронов объясняет это их нежелание двумя обстоятельствами. Во-первых, для крестьянства «справедливое», т.е. уравнительное распределение материальных благ имело большее значение, чем уравнительное распределение власти и влияния, поэтому они были чрезвычайно щепетильны относительно распределения земли и налогов, но достаточно равнодушны относительно распределения власти. Во-вторых, активное участие в общественных делах требовало опыта и времени (оно поглощало до трети рабочего вре- мени) и очень мало или вовсе не вознаграждалось, а иногда даже приносило убытки. Жалованье и незначительные льготы не компенсировали потерь рабочего времени, особенно для лиц, занимавших наиболее важные выборные должности. Общественная служба была тяжелой обязанностью, поэтому общественными делами могли и действительно активно занимались, во-первых, люди пожилые и опытные (пожилые не могли активно участвовать в тяжелой крестьянской работе), во-вторых, люди из большой семьи, которая безболезненно могла обойтись без одного работника, в-третьих, люди зажиточные, способные компенсировать свою неполную занятость делами своего хозяйства5 Большие семьи, как правило, были зажиточнее малых, а пожилые люди возглавляли эти семьи в качестве большаков, поэтому большие семьи главным образом и поставляли выборных. Таким образом, неравномерное распределение общественных обязанностей между различными социальными группами крестьянства приводило к тому, что власть ложилась бременем на высшую страту крестьянства. За престиж, уважение и власть зажиточные крестьяне платили своего рода налог, и поэтому более активное их участие в общественных делах устраивало остальных крестьян. Случалось, что крестьяне под разными предлогами уклонялись от общественной службы. По мнению Н.Ф.Беляевой, «Такое явление имело распространение и у мордвы»6 При этом она ссылается на А.Можаровского, писавшего: «Посаженный в старосты нередко через год уже откупался у мира водкой...»7
На должность старосты мог претендовать далеко не каждый сельский обыватель, а лишь тот, кто являлся домохозяином: главой крестьянского семейства, в пользовании которого находился земельный надел. Хотя по закону избранными могли быть лица не моложе 25 лет, в действительности возрастная планка поднималась до 35 лет. Важной характеристикой кандидата в старосты была его приверженность кодексу моральных устоев: строгое поведение в быту, семье, уважение к старшим, добросовестное отношение к своим обязанностям. Он также должен был отличаться «добрым поведением» и не иметь судимости8 Позже, во второй половине XIX в., учитывался и образовательный ценз.
В качестве помощников старосты на мирском сходе избирались десятские (выборные от каждых 10 дворов) сроком от 3 месяцев до 1 года. Они должны были наблюдать за чистотой и порядком в селе.
Староста, десятские получали жалование за счет средств рядовых общинников, и на время пребывания в должности они освобождались от всех видов натуральных повинностей. Кроме старост, сотников и десятских в помощь им избирались сборщики податей, матросы (объездчики), полесовщики, полевые сторожа и пожарные старосты.
Сельские общины действовали как самоуправляющиеся организации. Компетенция между общинами двух уровней была разделена; дела, которые они решали, различались номенклатурой и важностью (например, мелкие уголовные дела решались в деревенских общинах, крупные — волостным судом). Можно сказать, что волостным общинам принадлежали в основном административные и финансовые дела, касавшиеся всей волости, а также важные судебные, а в компетенцию деревенских общин входили все дела, включая административные, финансовые и судебные, касавшиеся отдельного селения. При таком положении большинство дел рассматривалось и решалось в деревенских общинах.
До XVIII в. почти каждая крестьянская община, население которой занималось главным образом сельским хозяйством, являлась в значительной мере самодостаточной: она могла существовать автономно от внешнего мира, так как большую часть своих материальных и духовных потребностей удовлетворяла самостоятельно. Отношения в общинах были неформальными. Внешние связи крестьян с государственными учреждениями, другими общинами, посторонними частными лицами осуществлялись, как правило, непосредственно через общину или ее руководителей, которые служили посредниками между населением и властями. Для этих целей выбирались поверенные лица от общины. Об этом свидетельствуют архивные материалы: «...уполномочиваем ходатайствовать от имени своего за наше общество по всем делам как ныне производящихся, так и впредь возникнуть могущими в судебных учреждениях и у должностных лиц, подавать прошения, объявления, заявлять спор о подлогах, получить справки, всякого рода документы...»9 Они также являлись проводниками установок и норм, на основе которых правительство стремилось утвердить общественный порядок в государстве. В их обязанности входило обнародование указов правительства и местной власти, назначение мирских сходов, организация своевременного сбора и сдачи податей, отправление по указам людей и подвод, объявление о беглых, пришлых, первоначальное рассмотрение крестьянских споров, расследование маловажных политических проступков, задержание виновных, допрос и отправка их в губную (приказную) избу для суда. Согласно обычаю, после избрания поверенный давал клятву выполнять свои обязанности по закону и совести, соблюдая заветы предков, а также заверял сход не чинить несправедливость, не обижать обездоленных и сирот, держать ответ перед Страшным Судом и Богом. Руководители общин информировали местную администрацию о требованиях и пожеланиях общинников, которые она принимала или не принимала во внимание при определении своей политики.
Подлинными неформальными лидерами мордовской общины являлись старики (мужчины в возрасте 60 лет) и старше, сохранившие трудоспособность, ясный ум и являвшиеся главами хозяйств. Старики, обладавшие большим опытом, пользовавшиеся репутацией честных, справедливых людей, объединялись в неформальное сообщество — «совет старейшин» и составляли наиболее влиятельную группу лиц в общине. В произведениях мордовского фольклора они называются сельскими старшинами («веленъ оуютне» — мокш., «веленъ покштне» — эрз.), сельскими стариками, дедами («веленъ атятне» — мокш., эрз.), сельскими судьями («веленъ судият» — мокш., эрз.). Например, в одной из эрзя-мордовских песен сказано: «Сур веленъ покштне, веленъ атятне, веленъ судият, веленъ дедат-не»10 («Сельские старшины, старики села Сабаева, сельские судьи, сельские деды»). Любое важное дело рассматривалось прежде всего ими, их мнение на сходе было решающим, без их согласия староста не принимал ни одного важного решения. Старики играли роль арбитров в важнейших мирских делах, выполняли функции судей, руководствуясь традициями отцов и дедов. В народе «совет старейшин» считался хранилищем обычаев предков, традиций. Его значимость проявлялась в спорных случаях жи- тейской практики. В крестьянском сознании единодушно признавалась эффективность этого органа. «В общественном быту здешних крестьян свято сохраняется порядок старинный... Всякая власть уважается, как данная от Бога. Главное основание общественного устройства есть уважение к старикам и их общему приговору ...Староста, сам собой, не решается ни на что важное, касающееся всего общества, без стариков. На мирских сходках редко крестьянин моложе сорока лет возвышает голос: взаимная доверенность к избираемому начальству и сонму стариков так велика, что молодежь считает предосудительным что-либо говорить на сходке», — засвидетельствовал помещик Нижегородской губернии11
Ю.Н.Мокшина считает, что компетенция «совета старейшин» не была четко очерчена. Рассмотрению подлежали наиболее важные дела, связанные с реализацией права или исполнением обязанности субъектами обычно-правовых отношений, а также обычно-правовые конфликты между членами общины, общиной и ее членами, общиной и государством. «Так, в правоотношениях между общиной и государством под этноюрисдикцию схода подпадали вопросы, возникавшие в связи с реализацией возложенных государством на общину обязанностей, например, исполнение рекрутской повинности»12 «Совет старейшин» также осуществлял разбор обычно-правовых нарушений: совершение опасных деяний, несоблюдение условий договоров, причинение вреда, разделы имущества, споры, возникавшие по самым различным проблемам13
Для понимания характера власти и управления в общине большое значение имеет процедура принятия решений. Согласно обычному праву, единогласие старейшин на сходе — непременное условие принятия любого решения. Если хотя бы один человек был не согласен, решение не могло считаться окончательным и быть реализованным. Каким же образом достигалось единогласие? Несогласное меньшинство или убеждалось доводами большинства, или, не будучи убежденным, добровольно уступало, чтобы быть заодно со всеми и не вступать в конфликт с миром. Принуждение в психологическом, а тем более в физическом смысле не применялось, хотя случалось, что меньшинство оказывалось вынужденным согласиться с мнением большинства вопреки своему желанию. С другой стороны, бывало и так, что целое крестьянское общество на многих сходах выбивалось из сил, чтобы уговорить одного из своих сочленов согласиться со всеми, и, не получив его согласия, откладывало дело. Требование единогласия давало каждому дворо-хозяину право вето, реализовать которое, однако, было нелегко. Право вето иногда использовали наиболее смелые крестьяне, чтобы противостоять помещикам или государственной администрации, вынуждая последних либо уступить, либо принять крайние меры в отношении несогласных, на что власти всегда шли неохотно. В основе правила единогласия лежало убеждение, что только согласие всех сделает решение прочным и справедливым, божеским.
Местная власть рассматривала волостные общины мордвы в качестве элемента низшей администрации, вступая в непосредственные отношения с ними, а не с отдельными лицами. Привлекая общины для выполнения государственных функций, официальная власть не пыталась, да и не имела сил и средств взять их под свой контроль. Правительство всегда признавало де-факто за общинами право самоуправления, например, местная администрация, располагавшая небольшим аппаратом управления, могла исполнять свои функции (судебную, податную, полицейскую и нотариальную) только опираясь на волостные общины, поэтому и поддержание общественного порядка, и суд, за исключением крупных уголовных преступлений, были де-факто также заботой самих общин. Что касается других жизненно необходимых для общин функций (поддержание благосостояния населения, организация хозяйственной, религиозной жизни и т.д.), то они также по необходимости входили в компетенцию главным образом деревенских общин и осуществлялись вне правительственного контроля, согласно стихийно выработанным обычаям и традициям, не закрепленным в законе. Члены деревенских общин были связаны круговой ответственностью. Постоянное управление делами общины принадлежало выборным ямским, сельским старостам, сотникам, десятникам и др.14, которые регулярно переизбирались и за свою деятельность отчитывались на общих собраниях. Деревенские общины посылали своих представителей на волостные собрания, избиравшие волостных должностных лиц — губных и земских старост.
Сначала губные старосты избирались в отдельных волостях, но впоследствии представители всех разрядов населения на общеуездном съезде избирали только одного губного старосту с несколькими помощниками (целовальниками) на целый уезд. Вместе с делопроизводителем (дьяком) они составляли канцелярию (губную избу). В ее компетенцию входили уголовная юстиция и полиция по важнейшим уголовным преступлениям: убийства, разбои, поджоги, а также содержание тюрем. По одному земскому старосте с несколькими помощниками избиралось на волость и весь уезд. В компетенции земских старост находилось все управление — полицейское, финансовое, экономическое и суд по гражданским и уголовным делам, за исключением наиболее опасных. Губные старосты избирались непременно из дворян, их помощники, а также земские старосты с помощниками — из посадских и крестьян. Для того чтобы выборные могли исполнять свои функции успешно, они были поставлены под контроль не только государственной администрации, но и самого населения: выборные и население были связаны взаимной ответственностью — мирской выбор был коллективным поручительством общины за выбираемого человека.
К середине XVI в. волостные общины как институты обычного права были введены в систему оформленных и признанных законом государственных институтов. С этого времени можно говорить о том, что волостные общины стали юридическими лицами, т.е. корпорациями, по закону обладавшими самоуправлением, правом вступать в обязательства, иметь и распоряжаться собственностью. По словам М.М.Богословского, мир стал «самоуправляющимся публично-правовым общественным союзом, связанным интересами общего блага»15 Общины первого уровня продолжали еще долгое время существовать без прав юридического лица, имели полуофициальный характер, осуществляли свою многообразную деятельность де-факто, а не де-юре.
В условиях существовавшей на территории мордовского края воеводской системы управления в компетенцию главы местной администрации, наряду с другими обязанностями, входил контроль над деятельностью общин и их выборных, но без вмешательства в их деятельность. Однако в течение первой половины XVII в. воевода постепенно превратился в начальника по отношению к выборным, так как к нему перешла административно-полицейская власть в уезде. На этом основании воевода стал вмешиваться в полицейские дела волостных общин, но другие их функции (финансовая, экономическая, религиозная и т.д.) остались в их компетенции де-юре. Что же касается деревенских общин, то они по-прежнему существовали и действовали де-факто. Воевода мало стеснял деятельность волостных общин из-за их отдаленности от города, где находилась его резиденция, и плохих коммуникаций, а деревенские общины вообще оставались вне сферы его влияния.
Общины имели право петиций на имя царя, правительства и широко этим пользовались. Монарх и центральная власть не оставались равнодушными к жалобам местного мордовского населения. Так, в 1664 г. царь повелел «В Кадом воеводе нашему Кириллу Евсеичу Арсеньеву. По нашему указу и по челобитью Темниковского уезду Краснослободского присуду села Дмитриева Усады, деревни Намбрюкижы мордвы Сускурка Килганова с товарищи, мещеряки, на кадомского ж помещика на Матвея, Лаврентьева сына, Жукова в их раззореньи и в бою и в грабежу велено взять к Москве. А детей их, которые в Кадоме сажены были в тюрьму по Матвееву челобитью Жукова ...не дожидаясь к себе о том нашего указу... трех человек из тюрьмы освободить и с порукою же выдать: они в тюрьму посажены не в татинном, не в разбойном и не в убийственном деле»16 В 1681 г. «По челобитью мордвина Васьки Понаева велено в иску его на самарского пристава на Максимка Соколова дать суд»17
Таким образом, до конца XVII в. на территории мордовского края существовал общественный порядок, присущий Российскому государству в целом18 В его основе лежала самоуправляющаяся община, решавшая, с одной стороны, насущные вопросы жизни своих членов, с другой — государственные задачи под общим руководством и контролем местной администрации19 При этом общины являлись субъектами самоуправления лишь настолько, насколько местная администрация возлагала на них осуществление функций государственного управления. Делегирование им власти происходило, кроме всего прочего, потому, что только сами общины могли вести управление инициативно, сооб- разовываясь с условиями места, времени и наличных средств. Избираемые населением руководители, связанные с ним множеством общих интересов и зависимые от него в своей деятельности и жизни, неизбежно подчинялись контролю общественного мнения, которое благодаря этому могло пресечь злоупотребления местных властей. Поскольку органы местного самоуправления осуществляли задачи государственного управления, местная администрация имела не только право, но и обязанность контролировать их деятельность и влиять на их состав. Самоуправление рассматривалось не только как привилегия, но и как натуральная повинность, возложенная государством на население в интересах обеих сторон20
Наряду с общиной организацией жизни мордовского населения ведали административные органы, созданные из числа выборных коренных жителей. В их основу был положен не территориальный принцип, а этническая принадлежность людей. Вместе с тем следует подчеркнуть, что должностные лица, представлявшие мордву, играли вспомогательную роль по отношению к уездной администрации и подчинялись ей. Деятельность мордовских воевод, голов, приказчиков, сотников, старост, пятидесятников, десятников и др. «лучших людей», представлявших местную знать, была лишена политической составляющей и сводилась в основном к фискальным функциям.
Существование общины, игравшей роль хранителя справедливости и традиций, следование общинниками нормам обычного права мордвы, и одновременное функционирование мордовских должностных лиц дает нам основание утверждать, что несмотря на значительное влияние воеводской администрации в повседневной жизни мордвы в этот период обеспечивалась реальная, внутренняя автономия коренного мордовского населения.
Список литературы Общинное самоуправление мордвы во второй половине XVI-XVII вв.
- Беляева Н.Ф. Община // Мордва. Очерки по истории, этнографии и культуре мордовского народа. Саранск, 2004. С. 331.
- Якушкин П. Несколько слов о мирском сходе // Северная пчела. 1860. № 124. С. 1-2
- Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Т. 3. Ч. 1. Саранск, 1939. С. 240.
- Александров В.А. Сельская община в России: (XVII - начало XVIII в.). М., 1976. С. 178
- Прокофьева Л.С. Крестьянская община в России во второй половине XVIII - первой половине XIX века. Л., 1981. С. 136