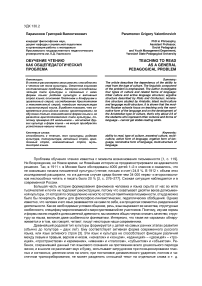Обучение чтению как общепедагогическая проблема
Автор: Парамонов Григорий Валентинович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 9, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена зависимость способности к чтению от типа культуры. Отмечена языковая составляющая проблемы. Автором исследованы четыре типа культуры и связанные с ними формы языка: родовая культура и активный строй языка; описанная Платоном и Конфуцием и эргативный строй; исследованная Аристотелем и номинативный строй; новейшие поликультура и мультистрой языка. В работе показано, что современные российские школы ориентированы на обучение только номинативной форме языка и на развитие аристотелевского типа культуры, поэтому примерно 2/3 школьников - носителей других культур и форм языка - не могут приобрести устойчивые навыки чтения.
Способность к чтению, тип культуры, родовая культура, поликультура, активный строй, эргативный строй, номинативный строй, мультистрой языка
Короткий адрес: https://sciup.org/14938405
IDR: 14938405 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Обучение чтению как общепедагогическая проблема
Summary: The article describes the dependency of the ability to read from the type of culture. The linguistic component of the problem is emphasized. The author investigates four types of culture and related forms of language: tribal culture and active language structure; ergative structure described by Plato and Confucius; nominative structure studied by Aristotle; latest multi-culture and language multi-structure. It is shown that the modern Russian schools focus on teaching only the nominative form of the language and on the development of the Aristotelian type of culture, that's why about 2/3 of the students who represent other cultures and forms of language – cannot get stable reading skills.
Проблема обучения чтению известна с момента возникновения письменности [1, с. 119]. Ни Возрождение, ни Новое время, ни Новейшая история не продемонстрировали ее адекватного решения. Так, в 1911 г. в Москве были обследованы 4000 детей 1–2-х классов и оказалось, что не освоивших начала письменной культуры (чтение, письмо и счет) 24,8 %. В 1912 г. объем этих исследований расширили, но и в данном случае среди более чем 34 000 перво- и второклассников неспособных читать и писать было 20 % [2, с. 276–277]. Схожая ситуация наблюдается и в современной России.
Большая часть истории формирования феноменов человека и языка скрыта от нас во мгле тысячелетий и почти не подлежит реконструкции, потому что охватывает десятки веков дописьмен-ной культуры, от которой по определению не могло остаться памятников письменности, откуда можно было бы почерпнуть факты для философско-лингвистических, педагогических обобщений. Однако известно, что человек и его язык развиваются не сами по себе, а в процессах совместно-разделенной деятельности. Как ее необходимые условия общение, речь, язык выражают ее качества, структурные особенности, специфику миропониманий и мирочувствований ее участников. Поэтому, изучая нормы и формы жизни людей в дописьменной древности, мы можем в общих чертах описать качество, структуру их языка, включая даже особенности фонематики. Интересно, что такая же «архаика» обнаруживается и в том, как говорят, читают, пишут некоторые наши современники.
Древнейший родовой тип культуры формируется у детей на самых ранних этапах развития (обычно до полутора – двух лет). Ему соответствует активная форма современного русского языка, или язык активного строя [3]. Эти язык и культура не способствуют фиксации различий между левым и правым, верхом и низом, «началом» и «концом», «единицей» – «двоицей» – «троицей», «пространством» и «временем», «именем» и «глаголом», «субъектом» и «объектом». Ребенок, сохранивший данный тип языкового сознания на протяжении всего дошкольного периода жизни, и в школе не различает звук и букву, испытывает затруднения при позиционировании гласных и согласных, делении слов на слоги, при постановке динамического ударения, полном и частичном транскрибировании, не может разделить сплошной текст на отдельные слова и т. д.
Это связано с преобладанием у него исключительно устной, озвученной родовой речи (активного строя языка). Поэтому ему трудно выработать навыки письменной культуры (литературной речи, грамотного письма, счета и т. д.).
В период истории Древнего мира, когда зародился феномен государственности, тем родовым людям, которые оказались в пространствах внеродовой жизни, потребовались иные язык и культура. Для многих (но не всех) современных детей такая языковая революция обычно происходит после полутора - двух лет в условиях перехода от родовых к внесемейным формам социокультурных взаимодействий: начинают, как в древности, действовать известные культурологам законы инкорпорирования, обратной перспективы, возникает эргативный строй языка [4]. В нем по закону обратной перспективы на первом плане оказывается и начинает доминировать какой-то один элемент, который подчиняет себе остальные, как бы умаляя при этом их значение, - но одновременно «подчиняя» себя собственному окружению: смысловому, бытийному, событийному. Противостояние обратно-перспективных форм жизни, с одной стороны, и родового «все во всем» - с другой, не могло не проявляться в языке «государственников», включая даже его фонетику. По-видимому, именно в период возникновения феномена государственности согласные проявились как таковые - и не просто позиционировались от гласных, но в соответствии с нормами обратной перспективы стали играть по отношению к ним значительно большую (доминантную) роль, притянув к себе «небесную» семантику - «неизменные» значения имен в их противопоставленности более «земным» глаголам, передающим изменчивость человеческого существования. Так, в эргативной форме языка должна была возникнуть и до сих пор поддерживается в качестве важнейшей оппозиция имени / глагола.
Качество языка первых государственников было описано в Древней Греции Платоном, а в Китае - Конфуцием, системно изучалось российскими лингвистами в первой половине ХХ в. Благодаря древним и новым исследованиям выяснилось, что люди, пользующиеся эргативной формой языка, вырабатывают особые понятия о пространстве и времени. Пространство для них двухмерно, а время подобно ковру, который постепенно опускается с неба на землю из неизменного небесного «настоящего» и уходит в земное «прошлое». В современной школе носители такой культуры сравнительно легко осваивают начала письменности (ее «иероглифические» или «клинописные» формы), но предпочитают мыслить и действовать по образцам, понимая букву как иероглиф, закономерно испытывают трудности при звуко-буквенных чтении и письме. В средних и старших классах для них становится проблемой системная фонетика современного русского языка номинативного строя (редукция гласных), его морфемика (отличение слога от слова и его части: приставки, корня, суффикса, окончания), по-аристотелевски системный или современный мультисистемный анализ и синтез слов и предложений, осмысление сюжетов, композиций литературных текстов, их переносных смыслов.
Номинативная форма языка также возникла в эпоху Древнего мира - в связи с переходом некоторых государств от инкорпорирования к собственно системности социокультурных отношений и связей. В Афинах, одном из важнейших центров Древней Греции, это движение приобрело массовый характер и было описано Аристотелем. Принципы аристотелизма были знакомы гражданам Древнего Рима, получили дальнейшее развитие в эпохи Средних веков, Возрождения и Нового времени. В соответствии с ними слог постепенно утратил в слове языка номинативного строя лексическую самостоятельность; и в слове, и в предложении, и в социальной жизни обратная перспектива уступила место прямой (линейной). Именно номинативный строй предполагает многообразие известных нам частей речи и систем фонетических оппозиций: последовательное различение глухих и звонких, твердых и мягких согласных, ударения - певучего, более свойственного инкорпорированным языкам (связанного с изменением длительности и высоты звучания гласных), и динамического (основанного на силе выдоха), а также сильных и слабых позиций гласных. Такой язык обычно проявляется у многих, но не у всех современных детей после трех -трех с половиной лет в момент, когда пространство становится для них трехмерным, а время начинает течь из земного прошлого в земное будущее. Эти дети легко осваивают в первых классах массовой школы звуко-буквенные (фонематические) письмо и чтение. Под их возможности подгоняют нормы оценок. Но они не составляют большинства. В классе их обычно 30-40 %, потому что все остальные дети - носители других форм языка и культуры (родовой - 10-15 %; первой внеродовой (основанной на инкорпорировании, обратной перспективе) - 30-40 %; поликультуры и мультистроя языка - 10-15 %).
По-видимому, последняя революция в сознании современного говорящего по-русски ребенка может происходить после пяти лет, когда он осваивает полифонию новейших человеческих отношений и связей - мультисистемных, поликультурных. Одновременно формируется мультистрой его языка, который предполагает одномоментную актуализацию как минимум трех важнейших «предыдущих» форм (активной, эргативной и номинативной) в пространстве новой - четвертой, обеспечивающей их равновесное динамичное взаимодействие. Одними из первых на существование такого языка и самого феномена мультистроя обратили внимание А.Ф. Лосев и М.М. Бахтин. Как явление массового языкового сознания мультистрой стал оформляться для достаточно большого числа людей в Западной Европе и на Руси в конце Средних веков, а утвердился в периоды Возрождения и Нового времени. Он поддерживает особое состояние сознания, социокультурных отношений и связей, которые выстроены в соответствии с «неэвклидовой», «дифференциально-интегральной» логикой взаимодействия бесконечно малых, благодаря чему «все утекает, ничто не повторимо: значит, все исключительно важно» [5, с. 156].
Решение проблемы обучения чтению во многом определяет судьбы не только отдельных людей, но и народов, наций, человечества в целом. Как жизнь православной церкви определяется не только Писанием, но и устным преданием, так введение многих наших современников в «храм» культуры XXI в. не должно сопровождаться отказом от ее старых форм. Ведь «старое» сохраняется внутри «нового» и «новейшего» как необходимое условие их существования. И по крайней мере для некоторых людей, включая школьников, оно закономерно детерминирует возникновение таких состояний сознания (А.А. Ухтомский назвал бы их доминантными), которые даже через зрительный и слуховой анализаторы (через глаза и уши) пропускают лишь те виды информации, которые соответствуют их качествам, что и определяет динамику, качество обучения чтению.
Ссылки:
-
1. Древнекитайская философия : в 2 т. Т. 1. М., 1994.
-
2. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины ХХ века. М., 1995.
-
3. Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977.
-
4. Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
-
5. Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск, 1997.
Список литературы Обучение чтению как общепедагогическая проблема
- Древнекитайская философия: в 2 т. Т. 1. М., 1994.
- Замский Х.С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины ХХ века. М., 1995.
- Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977.
- Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
- Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск, 1997.