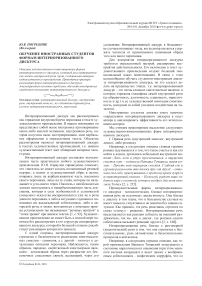Обучение иностранных студентов формам интериоризованного дискурса
Автор: Погребняк Юлия Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингводидактические основы формирования профессиональной компетентности учителя зарубежной школы
Статья в выпуске: 5 (10), 2010 года.
Бесплатный доступ
Описаны художественно-композиционные формы интериоризованного дискурса, который рассматривается как модель внутренней речи героя, создаваемая автором художественного произведения. Приводятся примеры реализации форм интериоризованного дискурса. Анализируются основные проблемы обучения иностранных студентов пониманию интериоризованного дискурса.
Интериоризованный дискурс, внутренняя речь, внутренний монолог, не собственно прямая речь, условно интериоризованная речь, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/14821601
IDR: 14821601
Текст научной статьи Обучение иностранных студентов формам интериоризованного дискурса
Интериоризованный дискурс мы рассматриваем как отражение внутренней речи персонажа в тексте художественного произведения. В нашем понимании он представляет собой некое внутреннее проговаривание каких-либо мыслей человеком, внутреннюю речь, которая получила свою экстериоризацию, свое вербальное оформление в определенном тексте. Объектом рассмотрения является интериоризованный дискурс в текстах художественных произведений, т.к. именно художественный текст дает обширный материал такого рода.
Интериоризованный дискурс составляет неотъемлемую часть практически любого художественного произведения. Ю.Н. Караулов справедливо отмечает, что «писатель не может создать полноценный речевой портрет, а значит и художественный образ в целом, опираясь лишь на вербализованную часть лексикона своего персонажа, лишь на те слова, которые он вкладывает в уста своего героя. Писатель с неизбежностью должен использовать и невербализованную часть лексикона, которая в силу особенностей и условностей словесного искусства воспроизводится уже не в речи данного персонажа, а либо в ситуациях слушания и понимания им высказываний собеседников, либо в авторской речи, и может вычленяться с помощью приема установления так называемых “речевых центров” и “точек зрения” при анализе текста» [1, с. 92]. Художественное произведение не может быть в полной мере понятым без рассмотрения в его структуре интериоризо-ванного дискурса, который в большой степени способствует реализации авторского замысла.
С одной стороны, интериоризованный дискурс стремится к бесконечности реализации многочисленных смыслов – символов, а с другой – тяготеет к детализации описания персонажа. Наблюдается, таким образом, парадокс, свойственный многомерным явлениям – детализация образа через раскрытие его бесконечных смысловых связей, ассоциаций, через его усложнение. Интериоризованный дискурс в большинстве случаев возникает тогда, когда автор пытается удержать читателя от примитивного понимания образа того или иного персонажа.
Для восприятия интериоризованного дискурса требуется определенный настрой, расширение восприятия действительности. Его включение в текст художественного произведения создает больший эмоциональный накал повествования. В связи с этим целесообразно обучать студентов-иностранцев анализу интериоризованного дискурса, но это следует делать на продвинутых этапах, т.к. интериоризованный дискурс – это очень сложное синтетическое явление, в котором отражена специфика самой внутренней речи (ее обрывочность, алогичность, клиповость, эвристич-ность и др.) и ее художественной имитации (монтаж-ность, влекущая за собой усиление воздействия на читателя).
Иностранные студенты должны уметь замечать «вкрапления» интериоризованного дискурса в текст автора и анализировать эффективность его использования автором.
Мы считаем правомерным выделение следующих художественно-композиционных форм интериоризо-ванного дискурса:
-
I. Прямая речь (внутренний монолог, внутренний диалог, либо реплика).
Например, в следующем отрывке главная героиня романа задумывается о том, что такое счастье и как его найти в жизни, произнося небольшой внутренний монолог: День, ночь и утро, просыпаешься, а ощущения счастья нет, – вздыхала Наташа Тупицина, правя роман. – Просто нет ощущения счастья. Сладкий сон и суровая реальность так далеки друг от друга! – отвечала она себе, прислушиваясь к крепкому храпу супруга из приоткрытой спальни. – Пожалуй, радует лишь забавное каре с косичкой, которое изобрел для меня стилист Тодчук [2, с. 235].
Преимущественная форма интериоризованно-го дискурса – монологическая. Однакo интериоризо-ванная речь не исключает диалогичность. Она близка к диалогу в том плане, что в большинстве случаев не имеет замысла, ситуативна и не понятна без знания ситуации. Как правило, эта речь реактивна, строится по схеме «стимул – реакция». Интериоризованная речь представляется как реакция субъекта на внешний раздражитель, так же, как и диалог, где реплика одного собеседника вызывает реакцию другого [3, с. 168].
Интериоризованная речь близка к разговорной (диалогической) речи в том, что она стремится к бессознательному, роль автоматизма и бессознательных процессов в ней велика.
Например, в следующем отрывке описано, как герой произведения Вавилен Татарский погружается в состояние наркотического опьянения (при этом меняется система координат) и ведет диалог с воображаемым собеседником – мифическим сирруфом, что со стороны выглядит как беседа с собой: Татарский заметил мерцание в полутьме комнаты. Он решил, что это отблеск какого-то огня на улице, встал и выглянул в окно. Там ничего интересного не происходило. Он увидел отражение своего дивана в стекле и поразился – обрыдлое лежбище, которое ему столько раз хотелось вынести на помойку и сжечь, в зеркальном развороте показалось лучшей частью незнакомого и удивительно красивого интерьера. Вернувшись на место, он опять краем глаза заметил мерцающий свет. Он перевел взгляд, но свет сдвинулся тоже, как будто его источником была точка на роговице. «Так, – радостно подумал Татарский, – пошли глюки» <…>
Татарский пришел в себя – он сидел на диване, держа пальцами страницу, которую так и не успел перевернуть…
– Господи, – пробормотал он, – как все-таки трудно протащить сюда хоть что-то…
– Вот именно, – сказал тихий голосок. – Откровение любой глубины и ширины неизбежно упрется в слова. А слова неизбежно упрутся в себя.
Голос показался Татарскому знакомым.
– Кто здесь? – спросил он, оглядывая комнату.
– Сирруф прибыл, – ответил голос
– Это что, имя?
– This game has no name, – ответил голос. – Скорее, это должность.
Теперь знакомая обстановка показалась декорацией к какому-то грозному событию, которое должно было вот-вот произойти, а диван стал очень похож на жертвенный алтарь для крупных животных.
«Зачем надо было эту дрянь есть?» – подумал он с тоской.
– Совершенно незачем, – сказал сирруф, опять появляясь в неизвестном измерении его сознания. – Вообще никаких наркотиков человеку принимать не стоит. А особенно психоделиков.
– Да я и сам понимаю, – ответил Татарский тихо. – Теперь.
– У человека есть мир, в котором он живет, – назидательно сказал сирруф. – Человек является человеком потому, что ничего, кроме этого мира, не видит. А когда ты принимаешь сверхдозу ЛСД или объедаешься пантерными мухоморами, что вообще полное безобразие, ты совершаешь очень рискованный поступок. Ты выходишь из человеческого мира, и, если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал. … Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком и ты хочешь быть кем-то другим. … [4, с. 57 – 59].
В приведенном отрывке наблюдается сосуществование, взаимоналожение и взаимоперетекание различных пространственно-временных координат.
Обычная городская квартира со старым диваном (одна система координат) одновременно представляется герою частью незнакомого и необыкновенно кра- сивого интерьера (вторая система координат); источник мерцающего света (третья система координат) постепенно разворачивается в четвертую систему координат – панораму летнего города с башней, на которой горит ослепительно белый факел. Далее Татарскому представляется, что огонь является солнцем (пятая система координат), которое резко меняет положение сверху на положение снизу. Сначала ему кажется, что солнце отражается в луже, а потом – что реальный мир отражается в солнце, т.е. происходит резкая смена пространственных координат. Затем опять появляется городская квартира, однако в ней присутствует мифический персонаж – сирруф, что также нарушает исходную систему координат, и потом квартира превращается в декорацию к жертвоприношению, а диван – в жертвенный алтарь (шестая система координат).
Нарушение представленности категорий сознания в интериоризованном дискурсе также указывает на прорыв сознания в область бессознательного, где таковые категории отсутствуют вообще.
-
II. Несобственно прямая речь представляет собой внутреннюю речь персонажа, представленную автором произведения с сохранением особенностей речи, манеры персонажа.
В приведенном ниже примере слова автора произведения У Галеева жизнь была расписана наперед лет на двадцать. Те, кто знал Рената поближе, ведали о его далеко идущих планах предворяют интериори-зованный дискурс, представленный в виде несобственно прямой речи персонажа – известного футбольного игрока Рената Галеева: У Галеева жизнь была расписана наперед лет на двадцать. Те, кто знал Рената поближе, ведали о его далеко идущих планах. Нынешний сезон он собирался, так и быть, доиграть в своем провинциальном российском «Ястребе». На следующий – он надеялся – его купит какой – нибудь не самый крутой итальянский или испанский клуб. В нем он отыграет пару сезонов, а потом его продадут великой «Барсе». Или «Интеру». Или «Реалу». Вратари играют лет до тридцати пяти, и когда придет пора вешать бутсы на гвоздик, Ренат надеялся сколотить себе изрядное состояние. Ну и тогда он обзаведется покорной красавицей – женушкой, что нарожает ему кучу детишек и будет готовить плов и манты на собственной вилле где-нибудь на Лазурном берегу [5, с. 23].
-
III. Условно интериоризованная речь представляет собой переданные автором произведения внутренние мысли, которые могут даже не находить вербального выражения во внутренней речи персонажа. Она, как правило, сопряжена с глубокой степенью интери-оризации дискурса и имеет в своей структуре мощную образную составляющую.
В приведенном ниже отрывке, который представляет собой пример условно интериоризованного дискурса, главный герой романа Геннадий Павлович, пе- реживая по поводу своего одиночества, мысленно представляет перспективу жизнь с женщиной, как он считает, более низкого социального статуса: Он провидел жизнь с некоей Зиной, которая была, скажем, официанткой в кафе и которая выдумывала бы и рассказывала своим подружкам в белых кокошниках, как вчера вечером они с Генкой ссорились, а затем еле помирились. Зина с фантазией, что поделать! А подружкам в кокошниках ее рассказы нравились. И поскольку отношения с Геннадием Павловичем были ровные и самые понятные, Зина сильно бы их усложняла, выдумывая какие-то сцены, ссоры, будто бы пьяные похождения Геннадия Павловича, особенно же как он, сильно перебравший, явился домой и как она его укладывала спать, жалела и обстирывала. <…>.Он подобрал этот осколок своих былых мыслей – рой – и теперь за него держался. В сущности, он терял себя; он завершался как личность, вероятно, считая, что рой – вершина его размышлений [6, с. 100 – 101].
Задача преподавателя – показать, что рассмотренные выше художественно-композиционные формы интериоризованного дискурса отличаются в первую очередь глубиной интериоризации дискурса, а также тематикой и специфическими функциями. Выбор автором той или иной формы интериоризованного дискурса способствует раскрытию тех или иных художественных целей произведения.
Нами было выделено несколько структурных типов взаимодействия автора и персонажа в художественном произведении. Так, слова автора
-
1) предшествуют интериоризованному дискурсу;
-
2) следуют за интериоризованным дискурсом;
-
3) тематически обрамляют интриоризованный дискурс;
-
4) чередуются с итериоризованным дискурсом персонажа;
-
5) тесно переплетены с интериоризованным дикурсом (в этом случае только тщательный анализ позволит разделить интериоризованный дискурс персонажа и слова автора произведения).
Интересным представляется рассмотрение путей введения интериоризованного дискурса в ткань художественного произведения с точки зрения взаимодействия субьектов – автора, повествователя, главного героя и других героев:
-
• включение в авторское повествование интерио-ризованного дискурса самого автора;
-
• включение в авторское повествование интерио-ризованного дискурса героя произведения;
-
• пересказ автором интериоризованного дискурса героя произведения от имени самого героя;
-
• включение интериоризованного дискурса героя произведения в его экстериоризованный дискурс;
-
• включение интериоризованного дискурса автора речи героя;
-
• включение в экстериоризованную речь героя ин-териоризованного дискурса других героев;
-
• включение в интериоризованный дискурс героя произведения речи других героев, которая интерпретируется и ассимилируется в нем.
Естественно, что предложенный список форм ин-териоризованного дискурса не является исчерпывающим, он может быть уточнен и расширен.
Рассмотренные формы существования интериори-зованного дискурса в общем являются универсальными для разных языков, однако в различных языках могут быть найдены некоторые отличия.
Задачей преподавателя является научить иностранных студентов находить и анализировать интери-оризованный дискурс с целью более полного понимания художественного образа и замысла произведения, а также обнаруживать соответствия тем или иным формам интериоризованного дискурса в родном языке.
Список литературы Обучение иностранных студентов формам интериоризованного дискурса
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 263 с.
- Борминская С. Вы просили нескромной судьбы? Или Русский фатум. М.: Эксмо, 2008. 320 с.
- Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с.
- Пелевин В.О. Generation «П»: Роман. М.: Эксмо, 2005. 336 с.
- Литвиновы А. и С. Трансфер на небо. М.: Эксмо, 2008. 288 с.
- Маканин В.С. Один и одна. М.: Современник, 1988. 317 с.