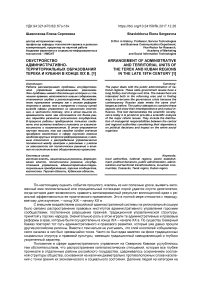Обустройство административно-территориальных образований Терека и Кубани в конце XIX в
Автор: Шавлохова Елена Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2017 года.
Бесплатный доступ
Работа рассматривает проблемы государственного управления национальными регионами. Эти проблемы имеют длительную историю и с течением времени наполняются новым содержанием, становятся глубже и разностороннее. Исследователи проявляют интерес как к эпохам реформаторства в целом, так и конкретно к поиску путей вывода сферы управления из кризисного состояния, в частности потому, что в этом смысле современность мало чем отличается от более ранних периодов развития российского государства. В процессе работы предпринята попытка соединить эти аспекты воедино и показать их взаимозависимость и взаимовлияние. В этом отражается научная новизна, так как сегодня особое значение приобрело вовлечение в сферу научного анализа наиболее крупных вопросов реформирования, к каковым относится и распределение управленческих полномочий между центром и регионами с учетом их зависимости от политических решений и влияния на состояние всего общественного организма.
Местная власть, национальные регионы, формирование власти, политические решения, государственное управление, административно-территориальные преобразования, горские сообщества, казачество, терская область, кубанская область
Короткий адрес: https://sciup.org/14941143
IDR: 14941143 | УДК: 94:321(470.62/.67)"18" | DOI: 10.24158/fik.2017.12.26
Текст научной статьи Обустройство административно-территориальных образований Терека и Кубани в конце XIX в
По-настоящему оценить события прошлого, извлечь из них полезные уроки, выявить заложенный ими положительный или отрицательный потенциал порой удается спустя десятилетия, когда история дает возможность сравнить запланированный результат воплощенной идеи с реальной эффективностью ее практического применения. Это в полной мере относится к периоду, взятому для изучения, – концу XIX – началу XX в.
С внешним воздействием российской административной системы на региональный социум было связано распространение правовых институтов административного управления горскими сообществами, постепенное разрушение прежней, традиционной управленческой структуры, принятой у горских народов. Значительную роль в этом играли те административные и правовые реформы в крае, которые были осуществлены в конце XIX – начале XX в. По существу Северный Кавказ повторял тот путь административного и правового развития, который уже давно прошли другие российские регионы. Вместе с тем нельзя не учитывать, что слой носителей «общеимперского начала» в них был чрезвычайно тонок. Часто он был едва заметен на фоне традиционных социальных структур и правовой культуры, имеющих традиционный самодовлеющий и глубоко укорененный характер.
Положение в сфере административного управления на Северном Кавказе усугублялось тем обстоятельством, что распространение капиталистических отношений, которые все глубже проникали в отдаленные районы российского государства, сдерживалось сохранением сословной структуры общества, основанной на наличии диаметрально противоположных слоев населения с точки зрения их экономического и социального состояния. Деление людей на категории не только не позволяло неимущим людям участвовать в процессе создания своего национальнотерриториального образования, но и порождало противоречия, а порой и враждебные отношения между представителями различных этнических групп. Особенно остро эти противоречия проявлялись во взаимоотношениях горцев с казачеством, стоявшим на страже имперских интересов в регионе. Казаки вовсе не проявляли заинтересованности в выравнивании социального и экономического статусов станиц и аулов.
На качестве созданной системы управления сказывалось также проявление присущих для всего государственного аппарата издержек бюрократического характера, которые вслед за созданной административной структурой довольно быстро адаптировались в новой социальной среде. Неравномерное распределение прав и обязанностей одним жителям давало слишком большие преимущества, других лишало всяких возможностей беспроблемного решения хозяйственных, бытовых, семейных или правовых вопросов.
Тем не менее государственная власть стремилась в полной мере реализовать свои политические планы применительно к северокавказским территориям, используя для этого всевозможные административные механизмы по утверждению своего влияния среди горских сообществ. К концу 1880-х гг. структура Терской области состояла из трех отделов и четырех округов. Общее количество территориальных единиц по сравнению с предыдущим этапом реформ не изменилось, но значительно усилилась вертикаль административного давления на низовые органы общественного управления. Атаманская власть распространялась на Кизлярский, Пятигорский и Сунженский отделы, во Владикавказском, Грозненском, Нальчикском и Хасавюртовском округах административные и полицейские функции выполняли, как и раньше, начальники правлений.
Данное деление области также не было окончательным. На рубеже веков здесь был создан новый отдел с центром в городе Моздоке. К нему отошли некоторые станицы с казачьим населением, которые ранее относились к Пятигорскому отделу. Что касается округов, то в последние годы XIX в. они не видоизменялись. После этого до самого 1905 г. каких-либо существенных изменений в административно-территориальном делении Терской области не происходило. Во время революционных событий в стране, несмотря на повышенную социальную напряженность, в том числе и на Северном Кавказе, правительство решило возвратиться к окружному делению области. В этих целях из территорий, относившихся к отделам, были выделены два новых округа: Назрановский и Веденский. Теперь Терская область состояла из шести округов [2].
Данное деление отражало национальный состав горского населения. В сущности, впервые за всю историю своего существования северокавказские народы приобрели административно выделенные территории. Например, осетины компактно проживали в пределах Владикавказского округа, чеченцы проживали в населенных пунктах Веденского и Грозненского округов, ингуши преобладали в Назрановском округе, а кумыки – в Хасавюртовском. Основное население Нальчикского округа составляли кабардинцы и балкарцы. Казачьи станицы остались в административном подчинении отделов. На Тереке, в отличие от Дона, общественное самоуправление казаков осуществлялось в основном на станичном уровне, что официально было закреплено в соответствующем положении, которое регламентировало права станичного круга, атамана, правления и суда [3, с. 137–163]. Кроме того, Кизлярский отдел имел в своем составе Караногайское приставство, которое было передано в Терскую область из Ставропольской губернии [4].
Выше мы рассмотрели вопросы о том, что во второй половине XIX – начале XX в. Терская область в административно-территориальном отношении делилась на отделы, в которых преобладало казачье население, и округа́, границы которых к началу нового столетия очерчивали основной ареал расселения коренных народов Северного Кавказа. В пределах Ставропольской губернии для степных кочевников были образованы приставства. Обратимся теперь к положению дел в рассматриваемой сфере на территории Кубанской области и Черноморского округа, позднее преобразованного в губернию.
По сравнению с Северным Кавказом на Кубани население также было неоднородным, но здесь для административного управления казачьими станицами и горскими аулами создавались и округа, и приставства. Так же как и на Тереке, они не являлись постоянными и часто подвергались реформированию. Всего в Кубанской области насчитывалось шесть округов: Абадзехский, Бжедуховский, Верхнекубанский, Лабинский, Натухайский и Шапсугский. На территории перечисленных округов были организованы семь приставств: Абадзехское, Бжедуховское, Верхнекубанское, Лабинское, Нижнекубанское, Нижнеприкубанское, Тахтамышевское. Как видно, многие при-ставства имели одинаковые названия с округами, на территории которых они располагались. Кроме того, по названию некоторых из них можно определить этническую принадлежность основного населения. Верхнекубанское приставство прежде называлось Карачаевским, а Нижнекубанское – приставством Закубанских ногайцев [5, с. 10–116].
Терская и Кубанская области разделялись хребтом между Кубанью и Малкой, где граничили земли Терского и Кубанского казачьих войск. Это разделение, однако, официально не было закреплено [6], видимо, по той причине, что правительство заранее не исключало возможности земельных переделов.
После того как правительство пошло на изменение формы управления национальными регионами, в том числе Северным Кавказом, на Кубани произошло разделение территорий на зоны ответственности между казачьими бригадами и полками. В местах расселения горских народов состоялось учреждение пяти окружных управлений: Зеленчукского, Лабинского, Псекупского, Урупского и Эльбрусского [7, с. 109–116]. Если учесть, что по состоянию на середину 1860-х гг. в области насчитывалось три таких структуры, то становится очевидным, что власти принимали меры по усилению административного контроля над горскими сообществами. Так же как и на Тереке, здесь после распределения территорий по округам основное внимание уделялось обустройству и регламентации органов общественного управления в населенных пунктах, создавались судебные инстанции, проводились выборы должностных лиц. Кроме того, в каждом округе формировался фонд свободных земель, который впоследствии распределялся между выходцами из российских губерний, прибывавших по каналу плановой миграции. После обустройства на новых местах жительства и регистрации поселения они также включались в сферу ответственности окружного правления. Другими словами, демографическая структура округов формировалась за счет смешения представителей славянских народов и местных этнических групп. В местах расположения окружных администраций создавалась вся необходимая инфраструктура: окружные суды, органы прокурорского надзора, судебные мировые и следственные участки, нотариальные конторы [8].
Традиционно в горных районах аулы назывались по фамилии их владельцев. После начала административных реформ старые названия постепенно заменялись, при этом чаще всего учитывалось их географическое местоположение, наличие в окрестностях рек, горных массивов и т. п. Например, аул Фарский был организован на реке Фарса из небольших населенных пунктов Мамхеговского и Хакуриновского.
Несмотря на то что реформы в рассматриваемой сфере на Северном Кавказе проводились в соответствии с одним и тем же положением «О преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской областях», структура управления в них имела существенные различия. Выше говорилось о том, что на Тереке основными административными единицами стали округа, поделенные позднее на участки. Деление данных участков указывает на то, что в основном ставка была сделана на использование имевшегося опыта окружного правления, в то же время проявилось заметное стремление расширить функции новых административных органов. Расширение коснулось, в частности, передачи им некоторых судебных полномочий, хотя дела по особо опасным государственным преступлениям в обязательном порядке направлялись для рассмотрения в военные суды [9].
Во время перехода власти от наместничества к гражданскому управлению основная часть Кубанской области осталась в пределах Северного Кавказа, а Черноморский округ отошел к Закавказскому краю [10, с. 105–119]. В это же время в области было создано еще два уезда. В этот период российское правительство большое внимание уделяло также совершенствованию работы административных органов в горских селениях, особенно их судебным функциям, так как они представляли собой одну из форм государственного управления и отражали политические интересы империи [11, с. 116–128].
Таким образом, анализ свидетельствует о том, что, несмотря на выработку единой политической линии в сфере обустройства административно-территориальных образований среднего уровня, самодержавной власти приходилось уже в процессе реформ корректировать свои действия в зависимости от многих социально-экономических факторов. Изначально преобразования были рассчитаны на длительный период, поэтому осуществлялись поэтапно. Не всегда сразу учитывались и государственные интересы, из-за чего в ряде случаев наблюдалось отступление от избранной стратегии вовлечения Северного Кавказа в сферу российского влияния. Преобразования на Тереке и Кубани регламентировались одними и теми же нормативными актами, однако в реальности они отличались своей направленностью и формами реализации. Те структуры, которые прижились в Терской области, иногда не подходили к условиям жизни кубанского населения, и наоборот. В связи с этим структура административных органов в Кубанской области оказалась самой сложной и многообразной [12, S. 135–148]. Тем не менее после Ставрополья она ближе располагалась к общероссийским стандартам, нежели система управления терскими территориями. На наш взгляд, это объясняется прежде всего составом населения. На Тереке горцы преобладали над славянами и представителями других национальностей, местные народы составляли ядро северокавказских этносов. В социальной структуре Кубани доминиро- вали казаки и выходцы из центральных российских губерний. В то же время необходимо отметить, что разными путями в различных регионах Северного Кавказа самодержавная власть целенаправленно продвигалась в направлении полного удовлетворения своих интересов в Терской и Кубанской областях, используя для этого весь арсенал имевшихся на тот период средств для их обустройства в соответствии с российскими стандартами и законами.
Ссылки и примечания:
-
1. Издание статьи осуществлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных исследований «Присоединение Осетии к России как процесс интеграции народов Северного Кавказа в административно-правовую систему России (конец XVIII – начало XIX в.)», проект № 16-11-23014.
-
2. РГВИА. Ф. 330. Оп. 92. Д. 707. Л. 2.
-
3. См.: История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 г. : учеб. пособие. Ростов н/Д., 2001. С. 137–163.
-
4. Край наш Ставрополье. Очерки истории / под ред. Д.В. Кочуры, В.П. Невской. Ставрополь, 1999. С. 503.
-
5. Магаяева П.И. Реформы 60–70-х гг. XIX в. в горских округах Кубанской области. Карачаевск, 2003. С. 10–116.
-
6. См.: Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Краснодар, 1992.
-
7. Магаяева П.И. Указ. соч. С. 109–116.
-
8. Государственный архив Краснодарского края. Ф. 482 (Екатеринодарское окружное управление). Оп. 1. Д. 36. Л. 1–1 об.
-
9. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 54. Отд. 1: 1879 – 18 февраля 1880. СПб., 1881. Ст. 59491.
-
10. См.: Очерки истории прошлого народов Северного Кавказа. Пятигорск, 2004. С. 105–119.
-
11. Магаяева П.И. Указ. соч. С. 116–128.
-
12. Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibunq des Kaukasus. Bd. I. Gotha ; St.-Petersburg, 1796. 294 S.
Список литературы Обустройство административно-территориальных образований Терека и Кубани в конце XIX в
- РГВИА. Ф. 330. Оп. 92. Д. 707. Л. 2.
- История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 г.: учеб. пособие. Ростов н/Д., 2001. С. 137-163.
- Край наш Ставрополье. Очерки истории/под ред. Д.В. Кочуры, В.П. Невской. Ставрополь, 1999. С. 503.
- Магаяева П.И. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в горских округах Кубанской области. Карачаевск, 2003. С. 10-116.
- Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Краснодар, 1992.
- Государственный архив Краснодарского края. Ф. 482 (Екатеринодарское окружное управление). Оп. 1. Д. 36. Л. 1-1 об.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 54. Отд. 1: 1879 -18 февраля 1880. СПб., 1881. Ст. 59491.
- Очерки истории прошлого народов Северного Кавказа. Пятигорск, 2004. С. 105-119.
- Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibunq des Kaukasus. Bd. I. Gotha; St.-Petersburg, 1796. 294 S.