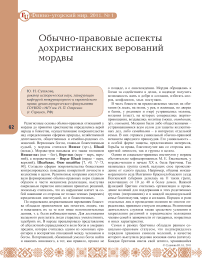Обычно-правовые аспекты дохристианских верований мордвы
Автор: Сушкова Юлия Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Наша общая история
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности дохристианских верований мордвы, в частности некоторые аспекты обычного права. Автор рассуждает о тесной связи права, сложившихся эталонов поведения с традиционными верованиями.
Мордва, обычное право, дохристианские верования, братчина, "божий суд", культ предков
Короткий адрес: https://sciup.org/14722860
IDR: 14722860
Текст научной статьи Обычно-правовые аспекты дохристианских верований мордвы
Финно–угорский мир. 2011. № 1
мордвы
Обычно-правовые аспекты дохристианских верований
Ю. Н. Сушкова, доктор исторических наук, заведующая кафедрой международного и европейского права, декан юридического факультета ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» (г. Саранск, РФ)
Религиозные основы обычно-правовых отношений у мордвы до принятия христианства определялись верой народа в божества, осуществлявшие покровительство над определенными сферами природы, хозяйственной деятельности, общественных и семейно-родовых отношений. Верховным богом, главным божественным судьей, у мордвы считался Нишке (эрз.), Шкай (мокш.). Мордва-эрзя называла его также теонимом Нишке-паз (паз – бог), Вере-паз (вере – верх, верхний), а мордва-мокша – Вярде Шкай (вярде – верх, верхний), Шкабавас, Оцю шкайбас [7, 40, 71–73, 96]. Согласно сферам покровительства божествами контролировалось поведение конкретной личности и коллектива в целом. Религиозные воззрения сопутствовали формированию обычно-правовых норм главным образом в части механизма реализации, выступая сакральным гарантом исполнения принятых решений, поскольку считалось, что их нарушение влечет за собой наказание со стороны не только земных (мирских) юридических институций, но и божественных.
По мордовским дохристианским верованиям божества обладали правомочием как помогать людям, так и наказывать их за те или иные непозволительные деяния, т. е. были амбивалентными. Для достижения желаемого результата люди старались умилостивить, задобрить их. В народе превалировало представление об абсолютной справедливости воли богов и умерших предков, которая считалась одним из основных ориентиров в восприятии отношений между человеком и богом. Потерпевший, обиженный умолял богов найти и наказать виновного, а тот, как правило, просил не о пощаде, а о снисхождении. Мордва обращалась к богам за содействием в делах, в надежде получить возможность жить в добре и согласии, избегать споров, конфликтов, злых поступков.
В честь божеств на предполагаемых местах их обитания (в лесах, на полях, у рек, в жилищах, во дворах и банях, у родников и озер) устраивались моляны, моления (озкст), на которых совершались жертвоприношения, воздавались молитвы (мокш. озондомат, эрз. озномат). Моления были либо общественными – устраивавшимися всем селом для защиты коллективных дел, либо семейными – в интересах отдельной семьи. В них отражен уникальный обычно-правовой механизм народного правосудия. Его уникальность – в особой форме защиты, представления интересов, борьбы за права, благополучие как со стороны конкретной личности, так и группы в целом.
Одним из социально-правовых институтов у мордвы обстоятельно зафиксированных М. Е. Евсевьевым, у мордвы-мокши в начале XX в. была братчина. Так называлась группа семей, ведущих свое происхождение от одного предка. Например, община мокша-мордовского села Волгапино Краснослободского уезда Пензенской губернии делилась на 11 таких групп, включавших от 10 до 40 и более домов. Важной функцией братчин считались организация и прове- дение молений для поддержания в этих родственных группах (патронимиях) и в каждой индивидуальной семье благополучия, мира и согласия. Порядок и роли отдельных лиц в проведении моления во многом определялись правовым статусом индивида. Религиозная деятельность служила также средством усиления и закрепления различий в юридическом положении членам семей в зависимости от гендерных, возрастных и иных характеристик.
Семьи в рамках братчины обладали равным социально-правовым статусом, что подтверждалось порядком хранения символа молений, в качестве которого выступала родовая восковая свеча (штатол). Каждая братчина имела свой штатол, хранившийся
по одному году в каждой из ее семей. Очередь велась по старшинству домов или по порядку дворов. Глава семьи, принявшей штатол, на год становился своеобразным лидером (старейшиной) братчинных собраний, организатором молений. В его обязанности входили прежде всего оберегание священного символа и подготовка дома к молению (уборка, приготовление кушаний, напитков). Когда все члены братчины были в сборе, хозяин вносил в избу штатол и передавал его старейшему в патронимии. Хозяйка зажигала свечу лучиной, а после моления угощала участников обедом [3, 360 ].
Жреческие функции обычно исполнял старейшина патронимии, избранный пожизненно. Он сохранял свою должность до смерти, «если непорочно проходил ее и не замечался в каких-либо предосудительных поступках, в противном случае, с общего согласия родичей, лишался своей должности» [1, 410 ]. Отказаться от нее можно было и по собственной воле. Старейшины рассматривались как лица, наиболее приближенные к потусторонним силам.
Ведущую роль в братчинном молении наряду со старейшими мужчинами играли старшие женщины. Только старейший обладал правом вынуть штатол из кузова, где он хранился, а затем при помощи перевязанного вокруг свечи полотенца прикрепить его к ушку поставленного среди избы ушата с брагой. После зажжения хозяйкой дома штатола старшая в братчине женщина, троекратно ему поклонившись, произносила молитву: «Кормилец воск, вот настал твой праздник, все мы собрались к тебе с хлебом-солью, дай нам здоровья и хорошую жизнь. Пусть уродится (у нас) хлеб и размножится скот. Дома наши сохрани от огня и всякого несчастья».
По окончании молитвы к старухе подходили женщины, передавая ей принесенные с собой отрезки холста и деньги. Та брала от каждой холст, обхватывала им несколько раз штатол, касаясь с разных сторон, и затем клала материю на стол с яствами. То же самое она проделывала с монетами, сопровождая церемонию словами: «Вот жена Ивана принесла тебе в дар холст и деньги, дай ей здоровья и счастья, умножь ее состояние, чтобы было чем и на будущий год устроить тебе праздник», «Вот сноха Петра…» и др. Таким способом назывались все женщины, участвовавшие в молении.
Об особом юридическом статусе старейшин братчины свидетельствовал обряд подсчета ими отрезков холста и денег. Половозрастные различия проявлялись также в раздельном расположении мужчин и женщин как на молении, так и за обедом.
Существовали определенные правила передачи штатола в другую семью. Он должен был быть снят с ушата, завернут вместе с полотенцем в холст, уложен в кузов и передан новому хозяину. На место хранения его доставляла процессия из всех членов

Почитание предков – значимый мордовский обычай братчины, во главе которой шли действующий и будущий хранители свечи. Иногда штатол перевозили на лошадях, что было более почетным. В доме нового хранителя накрывали столы с кушаньями. После ужина свечу убирали в кузов и хозяин выносил ее в амбар до следующего года. Обычным правом устанавливался запрет (табу) на прикосновения к штатолу до назначенного дня моления, нарушение которого могло привести к наказанию со стороны как членов братчины, так и богов.
М. Е. Евсевьев, изучавший мордовские братчины, отмечал, что увидеть священную свечу достаточно сложно, и объяснял это глубокой верой народа в нее. «Там (в с. Волгапино. – Ю. С. ), – писал он, – у меня, кроме учителя Поверинова, немало знакомых. Я не раз обращался к тем из них, у кого хранилась свеча, прося показать мне ее, но ни один из них не решался на это. Все отвечали, что, хотя они лично не верят в силу свечи, но боятся других братчиков. Только в 1909 г. удалось нам с Повериновым уговорить училищного сторожа, в доме которого хранилась в том году свеча братчины. Он тайно от семейных и прочих лиц вынул из кузова свечу и принес ее под полою в училище» [3, 346–351 ].
Мордовские моляны с комплексом разнообразной атрибутики отражали зависимость человека от природы и его религиозно-мифологическое миропонимание. В содержании и характере молитв были представлены нормы народной этики и права. В них последовательно раскрывалось присущее традиционному менталитету представление о мире, функционировавшее в пределах циклической хронологической константы протяженностью один год с четырьмя постоянными составляющими (временами года). Этот цикл являлся опорой воспроизведения и укрепления нравственных и юридических воззрений народа.
Наиболее существенные аспекты соционормативного регулирования общественных отношений подвергались

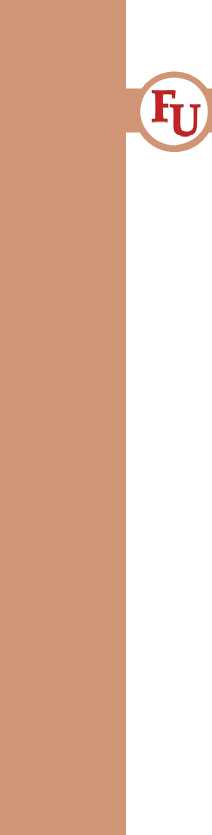

Мордовские женщины просят божеств сохранять в их жизни мир и порядок (с. Томылово Кузоватовского района Ульяновской области)
сакральному санкционированию. Это касалось таких институций и принципов, как, например, соблюдение мира и порядка в общине и семье, осуществление правомочий в рамках имеющихся условий собственности, различных обязательств и договоров, формирование межличностных отношений, правовой статус каждого члена коллектива, народное правосудие и др. Нарушение сложившихся эталонов поведения, обычно-правовых требований к поддержанию согласия в общине, договорных обязательств, а также иной ответственности, вытекавшей из отношений между членами коллектива, традиционно считалось безбожным, оскорбляющим веру и обязательно влекло наказание. По свидетельству К. Мильковича, относящемуся еще к XVIII в., мордва говорила, что в загробном мире «богато» живут лишь честные люди, а «бесчестно пожившие» горят в огненной смоле («смоласа пик-сить») [6, 823 ; 16, 98 ].
Большим почитанием у мордвы пользовались некоторые деревья, в частности липы, названные прощенными из-за их особой сакральной силы отводить гнев богов от людей, прощать их неправедные поступки. «Мордва верит, что всякая болезнь приходит к человеку в наказание от разгневанных божеств и, чтобы избавиться от болезней, нужно умилостивить пославшего их бога», – констатировал М. Е. Евсевьев, описывая липы около заштатного города Троицка, к которым на поклонение люди приезжали из Краснослободского, Инсарского и На-ровчатского уездов [13].
Наиболее серьезным наказанием, посланным богом семье, мордва традиционно считала болезни детей либо вообще бездетность. К «прощенным» липам часто приезжали бесплодные женщины и привозили с собой разные угощения. Разложив их под липами, женщины начинали молиться: ползали со слезами вокруг деревьев на коленях, упрашивая о прощении и помощи. На ветвях развешивали привезенные дары (холсты, платки, новые рубашки и др.). Матери оставляли под липами снятые с больных детей шапочки, рубашки, пояса в надежде, что вместе с ними останутся и болезни. По сообщению крестьянина-мордвина из деревни Само-дуровки Василия Карьциганова, на собранные деньги и пожертвования можно было бы построить каменный собор. «Молодые женщины нередко оставляют свои лучшие наряды, иногда стоимостью до десяти рублей. Это и не удивительно, так как бесплодие женщины и смерть малолетних детей считается у мордвы самым тяжким несчастьем» [13].
Народ приходил молиться во все времена года, но больше всего летом. К молениям привлекали знающих старух из близлежащих деревень. Так, к липам около г. Троицка привозили старух из Самодуровки и Кимляя. Наиболее известными среди них были Марфа Гуреева и Татьяна Данькина (д. Самодуров-ка), Февронья Челнокова и Авдотья Парамонова (д. Кимляй). Обряд женщины совершали бесплатно, довольствуясь скромным угощением и небольшими подарками. Обычно им дарили лепешку и пару яиц, в редких случаях – ситцевый платок, деньги (12–15 коп.) или отрезок холста в полтора-два аршина. Все оставленное после ухода молившихся также подбирали старухи, раздавая их по своему усмотрению неимущим [13].
Тесная связь обычного права с религией обусловила широкое распространение такой древнейшей практики, известной у различных народов мира, как «Божий суд», когда виновность лица устанавливалась по результатам испытания, которому это лицо подвергалось. Формы «Божьего суда» были разнообразными, наиболее известны среди них произнесение клятвенных заверений (присяги), жребий, судебный поединок [20, 93 ]. Например, при подозрениях кого-либо в краже мордовские судьи давали предполагаемому виновнику выпить смесь взятой с кладбища земли и воды. В случае истинности подозрения виновный, как правило, не решался солгать из опасения, что предки накажут его за это смертью [15, 172 ].
В традиционном правосудии мордвы очень весомым аргументом по делу считалось устное свидетельство, ибо произнесенная публично ложь могла навлечь гнев со стороны не только людей, но и божеств. Клевета, лжесвидетельство квалифицировались и как тяжкие антисоциальные проступки, и как греховные деяния. Уникальным гарантом правдивости произнесенного свидетельства, выражавшимся в боязни разгневать богов, в убеждении неотвратимости их возмездия, являлись клятвенные заверения (мокш. вал максома , эрз. вал максомо ). Большинство клятвенных заверений, практиковавшихся у мордвы, имело древние языческие корни. Судя по сохранившимся историческим и юридическим актам русского делопроизводства XVI–XVII вв., если русские при спорах с мордвой давали судьям в «божью правду» клятву по «крестному целованию»,

то мордва – «по своей вере по мордовской», «по своей вере по шерти» [2, 141 , 170 ].
Клятва мордвы «по своей вере» считалась одним из доказательств, подтверждавших на судебном процессе истинность оспариваемого факта или события. В некоторых мордовских деревнях еще в конце XIX в. давали клятву «через лутошку». Лутошкой называлась очищенная от коры древесина липы. Испытуемый должен был перешагнуть через нее со словами: «Чтобы иссохнуть мне, как эта лутошка, если солгу» [2, 184–185 ; 5, 4 ]. Подобно ряду других народов, мордва нередко клялась богом солнца: «Пусть поразит меня Чипаз , если я вру!» Интересно отметить, что в Саранском уезде Пензенской губернии в разное время суток клялись по-разному: утром – «Так же верно, как и восходящее солнце над моей головой!»; в обед – «Так же верно, как и солнце над моей головой!»; вечером – «Так же верно, как и заходящее солнце над моей головой!»
Мордва считала клятвенными и такие слова: «Накажи меня, Вере-паз, пусть ослепнут мои глаза и я не смогу видеть сияния солнца, если мои слова – ложь»; «Чтобы после захода солнца, солнца не видать, если скажу неправду». Обращаясь к верховному богу, мордва молила его о сохранении от греховных поступков и злых людей: «Нишке-паз, верховный бог, ты превыше всех богов… Храни нас от злого человека, плохо думающего, плохое делающего, плохие советы дающего, береги от злого глаза, плохих мыслей… Плохое замышляющего навзничь опрокинь, черной землей сделай, пусть стыдно ему будет, из среды людей выведи!» Хозяин скота, доказывавший принадлежность ему животных, в случае, если на них не оказывалось мет, должен был привести с собой двоих свидетелей, которые клялись словами: «Пусть нам не лежать в земле!» Эти слова признавались самой сильной клятвой, так как она предвещала клятвопреступнику после смерти вечное скитание по земле [4, 199; 8; 18, 185–186; 21, 13–14; 22, 174].
Приведенные клятвенные формулы широко использовались как в государственных учреждениях, так и в крестьянском быту. В качестве клятвы и способа примирения мордвины развязывали пояс, стелили на землю (на тропу или межу) и переступали через него. Перешагивание через пояс символизировало правдивость произнесенного свидетельства. Переступали также и через луб. «Был такой случай в одной семье. Старший сын-озорник взял без спроса из дома сладости. Когда родители стали спрашивать, кто из сыновей совершил такой поступок, то младший и старший мальчики в доказательство своей невиновности стали переступать через луб. Старший – виновник перепрыгнул через луб высоко, а маленький не сообразил и задел луб ногой. По обычаю тот, кто наступил, – виновен. Но родители, смекнув проделки сына, все-таки выяснили правду и поругали его» [10].
Давая зарок не заводить споры, поступали следующим образом: «На стол рядом клали два топора, около которых ставили свечу, при этом каждый должен был произнести обязательно по три раза: “Я больше не буду ” . Огонь гасили и с этого момен т а все с тарались жить в мире и согласии. Иначе мог наказать бог». Отвечая на вопросы относительно нарушения норм обычного права, старожилы мордовских сел произносят слово «грех» (мокш. пеже , эрз. пежеть ): «Раньше боялись греха и стыда: греха – перед Богом, стыда – перед отцом». Члены семьи нередко клялись друг другу: «Пусть меня парализует, если я солгу» [9–11]. В зарок правдивости сказанных слов мужчины вырывали волос из бороды.
О клятвенных заверениях как гарантии правдивости слов свидетельствуют и материалы мордовского фольклора. «Один старик рассказывал вот что. Сосед его, однодворец, тоже старик древний, перед смер-
Во время совершения обряда поминания предков. Фото Н. И. Спрыгиной

Предки рассудят каждого.
Фото Н. И. Спрыгиной



тью признался: был он в Мордовском царстве, но на Святом Писании поклялся никому не говорить, где то царство находится», – повествуется в мордовской легенде.
Гарантом исполнения обязательств, практиковавшихся у мордвы, как правило, в устной форме, служили религиозные верования. По утверждению В. Н. Майнова, мордва удивлялась вопросу, считает ли она за грех или стыд неисполнение произнесенного слова. В народе отвечали, что не сдержавшие слова люди теряли уважение и их никогда не привлекали бы для решения или обсуждения какого-либо дела, особенно в рамках сходов стариков. Исполнение договоров признавалось божественным делом. «Договор, всякий, хотя и словесный, так как иных мордва не знает, – святое дело, так как при всяком договоре договаривающиеся произносят чрезвычайно важную в их глазах формулу: “Бог нас связал – пусть он нас и развяжет”, причем связываются поясами друг с другом, а в одном месте выдергивают у себя по два волоса из головы и сплетают их вместе», – отмечал исследователь. У мордвы-эрзи, в частности, сложилась такая пословица: «На договоре крепок – беде не быть». Сакральное значение соглашения подтверждается этимологией мордовского соответ- ствия слова «договор» – алтавкс, что означает «обет» [4, 211–212].
Согласно религиозно-мифологическим воззрениям мордвы бог грома ( Пурьгине-паз ) считался близким богу молнии ( Ендол - паз ), совместно они наделялись мощной карающей силой. Пурьгине-паз , например, представлялся вооруженным камнями (мокш. атям кев , эрз. пурьгине кев , что означает «камень грома»), которыми он убивал людей и скот [7, 75 ]. За менее значительные проступки, особенно подростковые, он наказывал «крапивой грома» ( пурьгине палакс ).
С древнейших времен сложилась практика заключения договоров в специальные дни, посвященные тем или иным божествам. Таковыми у мордвы признавались дни в конце июня, когда обычно проводились многолюдное летнее общинное моление веле озкс (эрз., мокш. веле – село) и праздник бога грома Пурьгине-паза . Договорившись об условиях соглашения, обычно обращались к богу грома со словами: « Пурьгине-паз, керяк !» («Бог грома, руби!») – или богу солнца: « Чипаз, пултык !» («Бог солнца, сожги!»). При заключении соглашений произносились клятвы: «Связались мы кушаками – свяжи нас, Боже, цепями; кто ту цепь разрубит – чтобы кровь из нас текла». Или: «Как волосы наши связаны, так
Ряженые занимаются «профилактикой» несчастий и бед


и мы связаны; кто волосы развяжет – чужую кровь прольет». Выработка договоренностей у мордвы обязательно сопровождалась особым обрядом: участники соглашения отрезали горбушку от ковриги хлеба, делили ее друг с другом и съедали, каждый по небольшому куску зарывал в землю. Считалось, что съедание символа договора, каковым выступал кусок хлеба, произнесение клятвы гарантировали выполнение условий. В противном же случае: «кто кушаками связывался – нутро выйдет (грыжа), кто волосами – кровь горлом пойдет, кровью изойдет или огнем сгорит (горячка), а если этого всего не случится, то внутренняя молния (удар) убьет», причем для наказания богом молнии достаточным было разделение горбушки хлеба [4, 212–214 ].
Религиозным обрядом сопровождалось нанесение меты как средства маркировки межи. На каждом повороте межи нередко ставили камень, под который клали золу из очагов обоих соседей и вырезанные на кирпичах родовые знаки (эрз. тешкст , мокш. тяшкс ), призванные защитить ее от захвата. Меты вырезались с молитвой: «Шкай , кормилец! Инешке-паз , батюшка! Черный Мастыр-паз ! Как вы свои пчельники оберегаете, в чужие не вступаетесь, так поберегите и мое добро!» Попытавшийся перепахать межу после произнесения молитвы-оберега, по словам мордвы, «имел бы дело со всеми тремя главными божествами мордовскими, а с ними шутки плохи». Верили, что межевые кирпичи постоянно находились под охраной богов. Нередкими были рассказы «очевидцев» того, как ночью в местах расположения кирпичей ходил «дозором» со свечкой Мастыр-паз . «Зорко блюдут старые боги границы, так как задумают ли девушки о суженых погадать, только пусть ночью сядут на межевой камень и увидят все воочию, что с ними станется; колдуна где найти? Поди только ночью на межу, к межевому камню – тут ты его уж непременно застанешь, потому что где же ему и искать богов, как не здесь, на меже… Мордвин, желая уверить человека, что он говорит истинную правду, торжественно произносит: “Как на меже говорю”. Бывает и так еще, что мордвин заприметит борть свою метою на ближайшем дереве или просто кол поставит и на нем свою мету выставит – это тоже святое дело и никто до его добра не коснется, так как и кол этот не без молитвы ставлен» [4, 197 , 198 ].
Духовным стержнем народа было особое отношение к земле, выраженное в понятии «божья земля». В понимании мордвы земля была сотворена богами для всего народа. В этом представлении коренилось передававшееся из поколения в поколение благоговейное отношение к природе, тесно связанное с воззрением о сакральной охране природных объектов, не исключавшим развитие институтов собственности. В конце XIX – начале XX в. земельные наделы закреплялись за общиной, которая распределяла их среди семей по числу мужских душ. Некоторые участки земли и другие объекты в определенных случаях оставались в общем пользовании и также назывались божьими. Мордва-мокша, жалуясь В. Н. Майнову на недостаток земли, говорила: «Куда не ткнись – либо полесовщик, либо доверенный, у нас божьего нету: все либо царское, либо барское, а нашего четыре десятины, да и из них одна и одна треть гуляет, потому неудобица». Находка как один из способов приобретения собственности обозначалась у мордвы Пазынь-явовкс, т. е. божья часть, доля [4, 198].
О «божьей воле» говорили в тех случаях, когда на земле того или иного человека образовывался водный источник. Поскольку люди не в силах заставить реку течь в одну или другую сторону, считалось, что хозяин своим поведением, поступками угодил богу. В связи с этим установилось правило: граница, лежавшая по реке, сохраняется по ее течению. Бытование данного правила мордва объясняла тем, что человек не вправе спорить с волей богов, к тому же реки переменчивы и могут в любое время изменить русло. В использовании озера разделялись только берега, а оно само оставалось «божьим», все прибрежные хозяева могли в нем рыбачить. «Божьими» также считались дорога и межа, право пользоваться которыми имели все. Проезд и проход по дорогам и межам считался доступным каждому, причем за хозяевами земель закреплялась обязанность на поворотах и в узких местах рыть небольшие ямы, чтобы избежать наездов на пашню. Право пользования распространялось и на общественные леса, однако обычаем определялось правило разумного потребления для того, чтобы всем хватило от «божьего куска» [4, 205–207 ]. Обычно-правовое положение «божьих мест», т. е. угодий общего пользования, нередко определялось решением сельского схода.
Значимой составляющей религиозных основ народного правосудия у мордвы был культ предков. Все общественные бедствия (голод и болезни) она принимала как наказание или месть со стороны предков за неисполнение древних обрядов. Считалось, что предки выступают хранителями традиций и могут наказать потомков за нарушение сложившихся устоев или защитить от злого умысла. Во время свадебного обряда родители и родственники жениха, перед тем как идти за невестой, произносили следующую молитву: «Предки, благословите нас, вы – святые люди, в плодоносящей земле ваши тела, перед богом ваши души! Сохраните нас от плохих поступков» [19; 22, 123 ].
При разрешении семейных вопросов, возникавших между «живыми», также обращались к умершим предкам. К. Милькович отмечал: «Часто случается, что они [члены семьи], размолвясь между собою, ходят к умершим на могилу жаловаться и воображают, будто умершие, разобрав их дело, виноватого


Вера в Бога передается из поколения в поколение (с. Кушки Темниковского района, 2007 г.)
наказывают». В случае, когда в семье мордвина после смерти одного из ее членов возникал спор, пострадавший обращался к покойному с просьбой защитить его [6, 825 ; 22, 123 ].
Мордва обычно советовалась со своими покойными предками по тому или иному поводу. Если мордвина оскорблял или унижал его враг, то он, прежде чем принять какие-то меры, шел на совет к умершим. Помянув их хлебом-солью, ложился спать на могилу отца, деда или брата. Отомстить ли врагу или простить его, он заключал из своего сна. Если же он ничего не видел во сне, это означало, что предпринимать против своего врага ничего не нужно. К помощи покойных нередко прибегали и в целях причинения вреда [22, 285].
С увеличением значения умершего возрастал и почет к нему. Все, что так или иначе соприкасалось с ним, пользовалось у мордвы большим уважением. Могила покойного, место, куда выбрасывались щепки, оставшиеся после изготовления гроба, должны были быть неприкосновенными. Человек, потревоживший могильную землю, платил за это или жизнью, или благосостоянием. «На этой мстительности мертвых спекулируют люди, которые желают насолить врагу или извести его», – отмечал И. Н. Смирнов. Подобно марийцам, мордва верила, что достаточно взять земли с могилы и положить на двор к врагу, чтобы его постигло какое-нибудь бедствие. К гневу покойников обращалась жена, которая желала извести мужа. В с. Шадым Инсарского уезда произошел такой случай. «Женился парень самокруткой на девушке, которая была старше его. Скоро пошли семейные нелады, и жена решила отделаться от мужа. Соседки явились с советами: “Возьми венчальное кольцо мужа, ступай на кладбище чрез ворота к валу и вколоти кольцо на осиновом колышке в землю”. Баба проделала все, что ей посоветовали. Позже ребятишки, играя, действительно нашли кольцо на осиновом колышке, но она перемешала кольца и умерла сама». Особенно страшными считались места, где погребены убитые люди. Скотина, попавшая на такое место, околевала. Вольное или невольное оскорбление могилы могло привести к внезапной хвори, а иногда и к смерти виновника; женщина чаще всего наказывалась бесплодием [15, 172–174].
К покойным предкам обращались и в том случае, если кто-либо из членов семьи совершал проступок, но не сознавался в этом, хотя пострадавший и готов был клятвенно подтвердить истинность своих слов. Поскольку далеко не всегда можно было достоверно установить правоту какой-либо из сторон, глава семьи обращался за помощью к домашним духам: «Покойные предки, отец и мать! Мы молимся вам, мы кланяемся вам, проверьте наше дело. Сноха Тязай клятвенно утверждает, что сноха Мазай ее хотела заколдовать, но сноха Мазай тоже клятвенно уверяет, что Тязай лжет. Кто же из них прав и кто виноват? Установите, кто прав, а кто виноват, и накажите виновную!» [15, 123–125 ].
У мордвы существовал обычай клясться именем покойного. По свидетельству Н. П. Орлова, при этих обстоятельствах приносили с могилы землю, размешивали ее водой и давали пить свидетелю или же обвиняемому. Пьющий говорил: «Возьмите меня к себе, покойные предки, я умру (за это) и в этом году буду захоронен». Умерших призывали наказывать тех, кто осмелился дать ложную клятву и тем очернил честных, невиновных людей [15, 286 ].
К покойникам обращались за помощью и при выяснении обстоятельств преступлений, иных противоправных дел. Так, в заговоре на вора, практиковавшемся в с. Синенькие Петровского уезда Саратовской губернии, говорилось: «Покойники-старухи, вы правду-кривду видящие, правду ищущие, кто у Матроны деньги взял, у того человека высушите руки и ноги, сделайте его в углу сидящим, чтобы скрипучим деревом скрипел, днем и ночью колесом вертелся» [14, 99 ].
В культе предков во многом раскрывалась обычно-правовая модель взаимоотношений между общинниками, членами семьи, отражались принципы почитания старших, взаимной ответственности, заботы о родственниках, взаимопомощи, а также организационные начала проведения сельских сходов, собраний старейшин, семейных советов и др. Например, в дер. Кардафлей Городищенского уезда, обращаясь к старшему из покойных родственников, говорили: «Дедушка Павел! Ты старший между ними; собери всех своих родных, детей и внучат, всех накорми и напои, чтобы никто не стоял в стороне и не завидовал. Вот вам пуд серебра, пуд меди (при этом скоблили ножом монету и затем клали ее в шапку для покойников). Может быть, понадобится вам в кабак или на табак.


Наша общая история
Ну, простите, прадеды и прабабушки: где угодили, где нет! Благословите нас на хорошее житье, на урожай хлеба, на размножение скота. Храните нас от всякого зла и на ходу, и при лежании, и при вставаньи. Против злодея поднимите свои руки, протяните свои правые полы…» [3, 370 ].
Отдельные обычно-правовые аспекты отражены и в похоронно-поминальных обрядах. Так, известие о смерти родственника мордва не разглашала, в противном случае «никто не даст взаймы денег, не поднесет вина даром, пока не погребут мертвого». «Несмотря на такую предосторожность, молва разносится по деревне, и тем быстрее, что к некупленному вину мордвы льнут, как пчелы к меду. На первый жe день родные и знакомые, к истинному сокрушению хозяев, собираются толпами в дом печали. Тотчас им подносят вина, браги – помянуть отбывшего брата… Все подходят к усопшему и, показывая eмy грош, впрочем, не отдавая, говорят от чистого сердца: “Вот тебе сто рублей, сходи в кабак, пригласи и других покойников, купи табаку – не пеняй, не жалуйся на нас”» [12, 196 ].
В культе предков закреплялось представление о том, что залог благополучия общества в целом, как и отдельных людей, всего их природного окружения – в вечном повторении, неизменном воспроизведении одних и тех же природных явлений, жизненных процессов и человеческих действий. «Мы тебя провожаем на место вечное, на место вечное, в дом твой вечный», – поется в одной мордовской песне [17, 68 ].
Религиозные верования существенно воздействовали на формирование и реализацию системы народного правосудия. Оказывая значительное влияние на становление правосознания людей, они способствовали укоренению нравственных убеждений, осознанию неизбежности отчета за совершенные правонарушения не только перед общинниками-односельчанами, но и перед богами, предками. Правомочность сакральных клятв, обычно-правовое оформление порядка проведения общественных и семейных молений, определенный состав их участников, формы «Божьего суда», культ предков, другие религиозные воззрения укрепляли сложившиеся принципы семейного и общинного укладов, требовали строгого следования традициям, верности сложившемуся порядку жизни, повышали значимость и авторитет старейшин-жрецов, тем самым закладывая основополагающие начала норм-обычаев в различных сферах традиционной юриспруденции.
Mordovians; customary law; pre-Christian beliefs; bratchina; “God Justice”; ancestor cult

Список литературы Обычно-правовые аспекты дохристианских верований мордвы
- Гребнев, М. М. Мордва Самарской губернии. Историко-этнографический очерк//Самар. епарх. ведомости. -1886. -№ 20.
- Документы и материалы по истории Мордовской АССР. -Саранск, 1940.
- Евсевьев, М. Е. Избранные труды. В 5 т. Т. 5. Историко-этнографические исследования/М. Е. Евсевьев. -Саранск, 1966.
- Майнов, В. Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885.
- Малиев, Н. М. Общие сведения о мордве Самарской губернии; их антропологический характер; поздние браки и влияние их на крепость сложения народа. Национальные особенности черепа//Протоколы заседаний общества Естествоиспытателей при Казан. ун-те. 1877-78 гг. -Казань, 1878.
- Милькович, К. Топографическое описание Симбирского наместничества//Тамбов. епарх. ведомости. Ч. неоф. -1 января. -1905. -№ 18.
- Мокшин, Н. Ф. Религиозные верования мордвы/Н. Ф. Мокшин. -2-е изд., доп. и перераб. -Саранск, 1998.
- Полевые материалы автора: Н. Ф. Беляева, 1950 г. р., с. Польское Цибаево.
- Полевые материалы автора: И. И. Горностаева, 1932 г. р., с. Шокша.
- Полевые материалы автора: Г. Н. Кедярова, 1934 г. р., с. Морга.
- Полевые материалы автора: М. П. Учуватова, 1927 г. р., с. Шокша.
- Попов, М. М. Селиксенские мордвы//Этнокультурные процессы в мордовской диаспоре: тр. ГУ НИИ ГН. -2005. -№ 4 (121).
- Рукописный фонд НИИ ГН при Правительстве РМ. И-658. Л. 180-181.
- Саратовская мордва//Саратовский этнографический сборник/сост. М. Т. Маркелов. -Саратов, 1922. -Вып. 1.
- Смирнов, И. Н. Мордва/И. Н. Смирнов. -Саранск, 2002.
- Смирнов, Н. Мордовское население Пензенской губернии//Пенз. епарх. ведомости. -1874.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. -Саранск, 1981.
- Устно-поэтическое творчество мордовского народа. -Саранск, 1981.
- Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. Р-267. Д. 91. Л. 12-24.
- Юридическая энциклопедия. -М., 2001.
- Hamalainen, A. Das Kultische Wasserfeuer der Mordwinen und Tscheremissen//J. de la Societe Finno-Ougrinne. -Helsinki, 1936-1937. -Т. 48.
- Harva, U. Die Religiosen Vorstellungen der Mordwinen/U. Harva. -Helsinki, 1952.