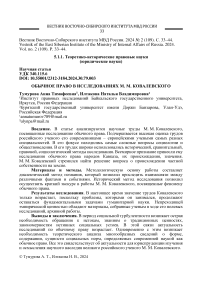Обычное право в исследованиях М. М. Ковалевского
Автор: Тумурова А.Т., Илтакова Н.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье анализируются научные труды М. М. Ковалевского, посвященные исследованию обычного права. Подчеркивается высокая оценка трудов российского ученого его современниками - европейскими учеными самых разных специальностей. В его фокусе находились самые сложные вопросы социологии и обществоведения. В его трудах широко использовались исторический, сравнительный, правовой, социологический методы исследования. Всемирное признание принесли ему исследования обычного права народов Кавказа, их происхождения, значения. М. М. Ковалевский стремился найти решение вопроса о происхождении частной собственности на землю.
Право, обычное право, антропология права, обычное право осетин, происхождение брака, кровная месть, обычай усыновления, обычно-правовой суд
Короткий адрес: https://sciup.org/143182984
IDR: 143182984 | УДК: 340.115.6 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.30.79.003
Текст научной статьи Обычное право в исследованиях М. М. Ковалевского
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – выдающийся российский ученый, известный юрист, теоретик права, историк, этнограф, социолог, экономист. Максим Максимович писал работы по международному, конституционному праву, по истории государственно-правовых идей и институтов (учреждений). Большое место в его научном наследии занимают исторические труды. Лауреат премии им. М. М. Ковалевского профессор А. О. Бороноев писал: «Действительно его исторический взгляд на институты общества, социальные, правовые и политические отношения всегда был всеобъемлющим, что определяло значение его работ и позволяло считать его выдающимся историком, одним из создателей «русской школы историков», наряду с Н. И. Кареевым, П. Г. Виноградовым, И. В. Лучицким и др.» [1, с. 128].
М. М. Ковалевский внес большой вклад в развитие вопроса о происхождении семьи, права, государства, как важнейших социальных институтов. В середине XIX в. труды по первобытной истории Л. Г. Моргана «Древнее общество» [2] и Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» [3] пробудили интерес к истокам эволюционного развития человеческого общества. М. М. Ковалевский, увлеченный идеей эволюционизма в социальной антропологии, издает монографию «Первобытное право» (1886) [4], посвященную вопросам генезиса рода и семьи.
Особое внимание М. М. Ковалевский уделял исследованию обычного права. Его первой работой в этой области был «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт» (1876) [5], затем «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» (1879) [6], напечатав лишь первую часть работы, «Очерк происхождения и развития семьи и частной собственности» (1890) [7].
Интерес к обычному праву привел Ковалевского к фундаментальному исследованию архивов и полевой этнографической работе на Северном Кавказе, в результате которых им изданы всемирно известные труды: «Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении» (1886) [8], «Закон и обычай на Кавказе» (1890) [9]. Следует признать, что введенные им в научный оборот материалы по обычному праву народов Северного Кавказа на сегодняшний день представляют важнейший эмпирический материал для теоретических обобщений по целому спектру социальных и обществоведческих наук. Неоднократно в научной литературе подчеркивалась необходимость изучения феномена обычного права – как важная и актуальная функция правоведения [10; 11].
Отечественная теория государства и права традиционно определяет обычное право как систему санкционированных обычаев. Такое понимание обычного права имеет давнюю историю в юриспруденции. Заложенное еще в эпоху римских глоссаторов представление разделялось учеными в XIX в. и нашло сторонников среди современных российских ученых [12].
Вместе с тем немало научных трудов, в которых предлагается иное определение понятия обычное право. Важно, что авторы обосновывают тезис о необходимости различения обычая и обычного права: «Обычное право – совокупность выработанных социальной практикой правовых норм, регулирующих равноправные отношения в обществе, признанных и санкционированных государством и выражающих статическую форму права в регулировании частноправовых общественных отношений» [13, с. 16].
Вместе с тем следует признать, что понятийное содержание традиционного определения, определение признаков, а также вопросы социального назначения продолжают оставаться одними из самых сложных, относятся к фундаментальным проблемам правоведения.
Таким образом, труды М. М. Ковалевского не теряют актуальности для исследования не только обычного права, но и вопросов происхождения права и его важнейших институтов: собственности, в том числе на землю, наследования, ответственности и др.
Максим Максимович использовал популярный в то время сравнительный метод для глубокого исследования причин возникновения права у отдельных народов. Европейская наука, как пишет ученый в конце XIX в., проявляет глубокий интерес к изучению народных верований, обычаев и преданий народов Кавказа. Научные журналы Journal des Savants, English Archaeological Review и Memorials of the Asiatic Society с готовностью принимают статьи на данную тему.
В своем исследовании исследователь предпринял попытку проследить культурные влияния Ирана, греческих, римских и византийских народов, христианского права, армянского и грузинского права, хазаров, гуннов и болгар, арабов, шариата, татар, монголов, кабардинцев на обычаи и традиции осетин, черкесов, ингушей, сванет, хевсуров, пшавов, тушин.
Ковалевский познакомил западных исследователей истории права с неизвестным этнографическим материалом по народам Кавказа.
Европейские ученые, привлекая материалы Ковалевского, вслед за Генри Джеймсом Сомнером Меном , Иоганном Якобом Бахофеном , Джоном Фергусоном Мак-Леннаном, Льюисом Генри Морганом , надеялись подтвердить или опровергнуть выдвинутые ранее гипотезы о первоначальных формах общественного устройства. Л. Г. Морган и Дж. Ф. Мак-Леннан сравнивали традиции и обычаи индейских племен, Генри Джеймс Сомнер Мен, в свою очередь, арийские племена Индии.
Большое преимущество этнографического материала народов Кавказа, по-сравнению с исследованиями американских, малазийских, полинезийских, индийских племен, по мнению Ковалевского, заключаются в благоприятных для сохранения первобытных традиций и обычаев. Вместе с тем ученый не уточнил и не детализировал свое понимание «благоприятных» социально-экономических условий для сохранения древней культуры на Кавказе.
Наиболее важным, с точки зрения научного мейнстрима середины XIX в., безусловно, является материал по брачно-семейному праву. Ковалевский разделял точку зрения И. Я. Бахофена о существовании в древности матриархата. «В обычаях черкесов и ингушей, осетин, сванет, хевсуров, пшавов и тушин автор отмечает целый ряд юридических обычаев и обрядов, происхождение которых не может быть объяснено порядками родового агнатического устройства и необходимо предполагает существование матриархата и связанных с ним учреждений» [9, с. 14]. По мнению М. М. Ковалевского матриархат, это не период женовластия, как считал И. Я. Бахофен, Герберт Спенсер в учении о ничем не сдерживаемом половом инстинкте, а власть в материнском роде у дяди и брата.
Что касается матриархата и материнского рода, то это научная проблема примерно середины XIX в., которая вызвала дискуссию, объединившую ученых Старого и Нового Света. Однако кратковременное единство ученых-социологов было прервано событиями первой четверти ХХ в. Показательно, что идея матриархата закрыта учеными Западной Европы в начале ХХ в., а советские ученые отказались от нее уже ближе к концу ХХ в. Однако нельзя не отметить огромное количество артефактов , разрешенных в ходе изучения этой проблемы. Следует отметить, что методологические противоречия, возникшие в силу вышеотмеченных политических событий, привели к значительному терминологическому хаосу в социологии, что явилось одним из факторов, препятствующим выработке общих подходов к решению большинства социальных проблем, особенно гендерных.
В настоящее время имеются работы по обычному праву, в которых подробно описана система дуальной родовой общины, концептуально снявшей вопросы о материнском роде и матриархате [14].
В описании обычного права народов Северного Кавказа ученый приходит к выводам, которые с сегодняшних позиций разделить трудно. Таким тезисом, на наш взгляд, является вывод о том, что семейная община являлась религиозной общиной. В развитие идеи, не совсем, на наш взгляд, правильно определенной Ковалевским, западноевропейские ученые стали говорить об общем родовом культе родовой общины [9, с. 33]. В научной литературе были примеры, когда род представлялся социальным единством, объединенным общим культом. Логические связи, которые приводят Ковалевского к этой мысли, следующие.
Родовое устройство, по его мнению, совпадало с периодом развития анимизма. У хевсур, пшавов и тушин сложилось представление, что умершие родственники насылают болезни. Автор описывает обряд у черкесов, в котором раненых и больных нельзя оставлять в покое ни на минуту, иначе во сне злым духам легче причинить смерть больному.
Виновником болезни считается другой умерший, которому больной не сделал приношение, и который наслал болезнь в качестве мести за обиду.
Культ мертвых, как считал ученый, появлялся с установлением патриархальной семьи, т. к. это культ агнатический, переходящий от мужчины к мужчине. Жрецами могли быть только прямые потомки [7, с. 77].
Позволим себе два замечания. Первое: агнатическим культ можно назвать только на весьма поздних этапах разложения родового строя, когда род представляет собой «виртуальное» единство, определяемое, как правило, по отцовской линии. А второе замечание вытекает из объяснения сути родовых приношений. В наших работах, посвященных родовым отношениям у бурят, объясняется, что важнейшей закономерностью формирования родовых отношений было обеспечение неразрывной связи поколений. То есть род представлял собой единство ушедших поколений, ныне живущих и грядущих. Эта неразрывная связь должна быть визуализированной в мифах, бытовых ритуалах и общих обрядах. Последние два, например, реализуются в каждодневных ритуалах подношения воды, молока, чая и др.
за столом у монгольских народов, брызгание спиртного на праздниках, жертвоприношения на общих празднествах практически у всех народов древности. Род жил в хозяйственном единстве, практиковал совместную трапезу. При этом все эти ритуалы означали прежде всего единство с предками, которые присутствуют как духи, но мыслятся как разделяющие их совместную трапезу. Вышеперечисленные факты говорят о большом распространении уже на более поздних этапах социального развития представлений о пагубности для социума предания забвению идеи нерушимости родовых уз. С целью поддержания разрушающегося единства часто используются идеи родовой кармы, например, у индусов, шаманских ритуалов жертвоприношения духам предков у сибирских народов, а у народов Кавказа Ковалевский описывает представления о болезнях, насылаемых обиженными предками. В этой связи мысль о рождении культа мертвых только с появлением патриархальной семьи не соответствует исторической правде.
В связи со сказанным следует, на наш взгляд, соответственно понимать представления о том, что отсюда у всех народов осуждение безбрачия, так как предки могут остаться без потомков, а соответственно, без пищи; а также, что обычай у осетин и сванетов на поминках выставлять на могиле усопшего пищу и питье свидетельствует о стремлении расположить покойника к себе… [9, с. 29].
Джеймсом Беллем впервые было отмечено существование в среде абазинских племен, населяющих горные долины по побережью Черного моря, своеобразной общественной организации, которое он передает словом «братство». В состав каждого из братств, или «тлеух», входит несколько родов «ачих» [9, с. 14]. Такие же братства встречаются и у чеченцев под наименованием «тайп». Отношения между мужчинами и женщинами одного братства, только как между братьями и сестрами, брак между ними запрещен. В старые годы, по описанию Д. Белля, виновных бросали в море. В 40-х г. XIX в. ограничивались выплатой за кровь и возвращали невесту ее отцу.
Обычай аталычества черкесов описан в сочинениях у генуэзца Джорджио Интериано. Дети поступают у черкесов на воспитание к постороннему лицу, желающему вступить по отношению к ним в роль аталыка (усыновителя). Воспитанный аталыком взрослый сын передавался в руки мужа матери. Таким образом, сын, воспитанный у аталыка, мог брать в жены сестру.
Эти обычаи ученый интерпретирует как необходимость заключать союзы с другими родами, с этой целью новорожденного отдавали на воспитание чужим семьям, чтобы таким образом установить с ними фиктивное родство [9, с. 19–18].
В данном случае необходимо обратить внимание на два аспекта, связанных с заключением ученого. Во-первых, принять и отдать ребенка усыновителям только внешне выглядит как стремление к установлению родственных отношений. В своем глубинном содержании это действие имеет цель выйти за рамки исключительно родственных отношений, связанных с родовыми устоями. Говоря другими словами, выйти за рамки матримониальных отношений. Не случайно в древности установление межродовых, межэтнических и более широких отношений сопровождалось обменом детьми. Аманатство уже на более поздних этапах в литературе трактуется как заложничество. Хотя исторические судьбы русских аманатов дают основания для более сложной интерпретации этого явления, которое застали и описали этнографы Кавказа.
У черкесов и осетин существовал другой обычай установления искусственного родства или побратимства. Обряд заключался в совместном принятии пищи и питья из одной чаши, в которую предварительно были брошены серебряные опилки или мелкие монеты.
Усыновляли лишь в очень редких и важных случаях. Например, между двумя семьями или даже племенами свирепствует многолетняя междоусобная война, вызванная убийством или каким-либо другим преступлением. Кто-нибудь вступается в это дело и убеждает обе семьи помириться. Мир заключается на следующих условиях: семье, к которой принадлежала жертва совершенного преступления, уплачивается известный выкуп и, кроме того, один из взрослых членов рода обидчика вступает путем усыновления в потерпевший род. С этого времени он будет занимать в нем место убитого, получит даже его имя, а усыновившая семья наделит его теми же правами и возложит на него те же обязанности, которые имел покойный [7, с. 113].
Если интерпретировать вышеприведенные обычаи с точки зрения антропологии права, то можно прийти к следующим выводам. Во-первых, признаки родовой общины, следует признать общечеловеческими. В греческой культуре мы встречаем племенное единство, охватывающее как минимум две фратрии, соответствующее русскому братству, чеченскому тайпу, монгольскому отог и т. д. Правило, запрещающее браки между представителями одной фратрии, древний феномен, известный нам, главным образом из работы Ф. Энгельса [15, с. 41]. Однако уже на период классического римского права обычай представлялся малопонятным посланием древних. В работах М. М. Ковалевского подробно описан феномен запрета брака между детьми двух братьев, однако история описывает распространенность в разных культурах предпочтение брака детей брата и сестры, то есть кроскузенный брак.
Что касается описанного обычая аталычества, то диапазон современных общих для человечества социокультурых явлений огромен. Так, в работах Г. Дж. С. Мейна описываются ряд правовых фикций, обнаруженных им в древнеримских текстах. Начнем с того, что усыновление является одним из самых древних и наиболее масштабно отразившихся в эволюции правовых институтов явлений. Установление правоотношений отцовства, кажется, является первым из правовых фикций, который определяется сегодня как признание отцом мужа родившей ребенка женщины. В монгольской культуре отца называют «аба», то есть принявший ребенка как своего.
Усыновление, которое, к слову, знаменует собой разложение родового строя, основанного на нерушимости хозяйственного, кровного родства и обменного брака, появилось как правая фикция отцовских отношений. Не случайно, в ритуалах многих народов длительное время сохранялись обычаи имитации «рождения» ребенка женой усыновителя и его «принятия», в прямом и переносном смыслах, в руки усыновителем.
Обычай существовал у иберийцев, басков, в Африке, на Малабарском берегу, в Мадрасе и на Молукских островах, а Марко Поло наблюдал его в XIII в. в провинции Юньнань, классические авторы – у жителей Корсики и Кипра, а также у тиверцев, населявших берега Понта Эвксинского [7, с. 52].
Усыновление, как условие перехода имущества от усыновителя к усыновленному, также межкультурный универсалий, оставил огромный след в истории человечества. Общеизвестно, что в 4 г. н. э. пасынок Августа Тиберий был официально усыновлен, получил имя Тиберий Юлий Цезарь и как таковой был объявлен наследником должности и имущества принцепса [16, с. 204]. И хотя официального титула престолонаследника не существовало, дарование таких огромных полномочий делало Тиберия в глазах общественного мнения законным преемником высшей власти.
В этом смысле правовая фикция выступала законным основанием для перехода власти и имения правителя. И она оставила непреходящий след в культуре величайших империй мира, начиная от Римской, распространенной в монгольской империи, заканчивая перипетиями Цинской династии в Китае.
В 1514 г. Франциска I (1494–1547) женили на Клод, старшей дочери Людовика XII. 1 января 1515 г. Франциск I взошел на престол.
Кроскузенный брак широко был распространен в Англии времен Г. Мейна, Ч. Дарвина, которые, как мы помним, были женаты на собственных кузинах. Кроскузенный брак был весьма распространенным в Корее, что вспоминается в связи с современным запретом брака между однофамильцами. Все эти факты имеют непосредственное отношение к описанному Ковалевским феномену.
Что касается обычая побратимства, то наиболее эмоционально насыщенным было побратимство, скрепленное кровью, Тэмуджина с его другом детства Джамухой, павшего от рук побратима жертвой дворцовых интриг.
С позиций антропологии права стоит обратить внимание, что договор заключался при помощи ритуала совместной трапезы, либо соединением крови. И в том и другом случае эти ритуалы указывают на факт совместного проживания братьев, то есть хозяйственное единство рода, и условие кровного родства агнатов. Одновременно с этим кровное родство за пределами агнатов не имело юридического значения. Отсюда обычай брака с когнатами, то есть кроскузенный брак.
Широкое распространение различных ритуалов и обрядов, связанных так или иначе с правовыми фикциями (например, усыновление) бытовали в общественной жизни разных народов. И, конечно, они не могли быть исключены из такого социального института, как кровная месть.
В Дагестане обычай позволяет не принимать участия в кровной мести путем формального разрыва со всей родней и выходом из рода (тохума).
Лицо, не желающее мстить, должно было поступить в члены обиженного им рода. С этой целью кабардинцы старались похитить ребенка из обиженного ими рода. Кабардинский убийца, став воспитателем одного из членов обиженного им рода, тем самым вступает в отношения искусственного родства.
Если интерпретировать обычай кровной мести, следует обозначит нашу позицию по этому вопросу. Исследователей кровной мести за все время существования социологического метода в общественных науках много. Их работы объединяет мысль, что кровная месть возникает как реакция на противоправное убийство члена общества. При этом государство в большинстве случаев рассматривается как субъект, запрещающий вредный социальный институт и берущий на себя миссию отмщения, но в особых цивилизованных или «правовых» формах [17, с. 48].
Исследование института кровной мести с позиции антропологии права привели нас к иным выводам, заключающимся в том, что институт кровной мести представляет собой ответственность за отказ разрешить социальный конфликт на правовой основе, то есть возместить потерпевшим причиненный вред. Кровная месть, кроме указанного основания, имеет собственное содержание и последствия [18, с. 134].
«Кровная месть, долг, обязанность, отсюда у черкесов, чеченцев, осетин, существовал обычай умерщвления кровных врагов на могиле своих жертв. Обряды на похоронах и поминках, на могилах покойников происходили ристалища или так называемые «джигитовки». Родственники над могилой совершают несколько выстрелов, потом 4-6 мужчин держат за уздцы вновь оседланную лошадь, потом три раза обходят могилу и надрезают себе уши, чтобы несколько капель крови упали на могилу. Смысл этого обряда заключается в символическом выражении готовности рода отмстить за покойного [9, с. 29].
Описываемые Ковалевским ритуалы, на наш взгляд, не имеют правового содержания. Скорее, описывают выражения человеческих эмоций, связанных с утратой. И, безусловно, содержат эмоциональное послание виновной стороне о необходимости разрешения социального конфликта между субъектами общественного договора на правовой основе, то есть с обеспечением равноправия, свободы и справедливости. Содержание послания не лишено эмоциональной составляющей, в виде угрозы неправовой расправы на случай отказа.
Многочисленность фактов, собранных Ковалевским о случаях кровной мести, может свидетельствовать о том, что процессы консолидации народов на Северном Кавказе, на момент их описания Ковалевским и другими участниками научной экспедиции, на основе общественного договора о взаимной личной и имущественной неприкосновенности еще не сложились в силу сложных геополитических составляющих, если говорить о факторах сохранения кровной мести в этом регионе.
Поземельные отношения - яркий пример сложных геополитических процессов, ареной которых являлся регион и в силу которых долго и трудно складывались межэтнические и кроскультурные связи. М. М. Ковалевский при изучении обычного права народов Северного Кавказа уделял особое внимание так называемым поземельным отношениям. Основанием для такого интереса были не только необходимость сведений для правительства, оплачивающего экспедицию большой группы исследователей, в которую входил Ковалевский, но и личная заинтересованность в раскрытии темы с точки зрения эволюции этих сложных отношений. В европейской науке того времени шел спор о сущности частной собственности на землю. Решению этого вопроса с точки зрения частного права были посвящены многочисленные исследования о славянской традиции задруга, общинного землевладения в России и т. д. Ковалевский видел признаки общинного землевладения у народов Кавказа. Несмотря на настойчивость Ковалевский и его товарищи не смогли ответить на вопрос об эволюционных формах перехода к частной собственности на землю на примере Кавказа. И в конце своей работы ученый пишет пространное объяснение о характере поземельных отношений на Кавказе.
Рост производительности труда способствовал индивидуализации производства и появлению прибавочного продукта, что давало возможность присвоения одним человеком излишков, произведенных другим человеком. В то же время возросшая производительность и общественное разделение труда делали возможным производство продуктов специально для обмена, т. е. товарное производство, создавали практику регулярного обмена и отчуждения. Так стала зарождаться свободно отчуждаемая частная собственность, которая отличалась от личной собственности эпохи классического родового строя прежде всего тем, что открывала дорогу отношениям эксплуатации. «В основании ее, - писал В. И. Ленин, - лежит зарождающаяся уже специализация общественного продукта и отчуждения на рынке» [19, с. 152].
Таким образом, самый краткий экскурс в работы М. М. Ковалевского, посвященные феномену обычного права, в частности народов Северного Кавказа, показывает актуальность, в ряде случаев злободневность проблем, над которыми в середине XIX в. работал российский ученый. В ХХI в. в ситуации социального кризиса, ломки общественных устоев остро осознается необходимость обращения к традиционным ценностям, историческим закономерностям, которые несут в своем содержании нормы и институты обычного права. Работы нашего великого соотечественника продолжают оставаться методологической основой решения важнейших теоретических обобщений в юриспруденции.
Список литературы Обычное право в исследованиях М. М. Ковалевского
- Бороноев, А. О. М. М. Ковалевский как социолог политики // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana): науч. журн. 2013. № 3. С.128–132.
- Морган, Л. Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Пер. с англ. Под ред. М. О. Косвена. Л.: Изд-во института народов Севера ЦИК СССР, 1935. 350 с.
- Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства, М.: Политиздат, 1986. 269 с.
- Ковалевский, М. М. Первобытное право. М.: URSS, 2016. 169 с.
- Ковалевский, М. М. Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт. Лондон, 1876. 38 с. // Архив открытого доступа Санкт-Петербургского государственного университета. URL: https://dspace.spbu.ru/handle/11701/18633.
- Ковалевский, М. М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения: Общинное землевладение в колониях и влияние поземельной политики на его разложение. Изд. стереотип. М.: URSS, 2021. 240 с.
- Ковалевский, М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / Пер. с фр. Изд. стереотип. М.: URSS. 2019. 152 с.
- Ковалевский, М. М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении. М., 1886. 163 с. // КонсультантПлюс студенту и преподавателю: сайт. URL: https://www.consultant.ru/edu/student/ download_books/book/kovalevskij_mm/.
- Ковалевский, М. М. Закон и обычай на Кавказе. М.: Кучково поле, 2012. 432 с.
- Тумурова, А. Т. Еще раз к уточнению понятия «Обычное право» // Вестник Бурятского гос. университета. Улан-Удэ., 2005. Серия: 12. Вып. 1. С. 3–15.
- Думанов, Х. М., Перщиц, А. И. К уточнению понятия «обычное право» // Государство и право. 2005. № 3. С.77–82.
- Мальцев, Г. В. Происхождение и ранние формы права и государства // Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов/ под общ. Ред. В. С. Нерсесянца. М., 2002. 813 с.
- Тумурова, А. Т. Понятие обычного права (функциональный подход) // LEX RUSSICA (Русский закон), 2017. № 11 (132). С. 9–23.
- Тумурова, А. Т. Генезис обычного права бурят / А. Т. Тумурова. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского университета, 2005. 221 с.
- Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М.: Политиздат, 1986. 746 с.
- История Древнего Рима: учебник для вузов по спец. «История» / В. И. Кузищин, И. Л. Маяк, И. А. Гвоздева и др.; Под ред. В. И. Кузищина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш.шк., 2000. 383 с.
- Георгиевский, Э. В. Кровная месть и смертная казнь у восточных славян // Сибирский юридический вестник: науч. журн. Иркутск: Юрид. институт ИГУ, 2005. №1. С.42–48.
- Тумурова, А. Т. Социально-антропологические выводы исследования генезиса института кровной мести // Социология уголовного права: сб. ст. Том I. / Под общ. ред. Е. Н. Салыгина, С. А. Маркунцова, Э. Л. Раднаевой. М.: Юриспруденция, 2013. С.123–134.
- Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1967. Т. I. 697 с.