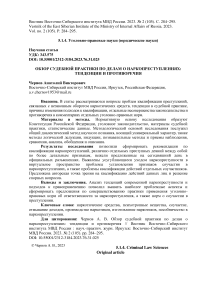Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия
Автор: Чернов А.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматриваются вопросы проблем квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, тенденции в судебной практике, причины изменения подходов к квалификации, отдельные несовершенства законодательства и противоречия в комментариях отдельных уголовно - правовых норм. Материалы и методы. Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство, материалы судебной практики, статистические данные. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результаты исследования позволили сформировать рекомендации по квалификации наркопреступлений, различию отдельных преступных деяний между собой по более детальным признакам, нежели предложенные на сегодняшний день в официальных разъяснениях. Выявлены усугубляющиеся уходом наркопреступности в виртуальное пространство проблемы установления признаков соучастия в наркопреступлениях, а также проблемы квалификации действий отдельных соучастников. Предложена авторская точка зрения на квалификацию действий данных лиц и решение спорных вопросов. Выводы и заключения. Анализ тенденций современной наркопреступности и подходов к правоприменению позволил выявить наиболее проблемные аспекты и сформировать предложения по совершенствованию практики применения уголовно - правовых норм об ответственности за наркопреступления, а также норм о соучастии в преступлении.
Наркотические средства, психотропные вещества, соучастие, отмывание доходов, производство наркотиков, изготовление наркотиков, пособничество в наркопреступлении
Короткий адрес: https://sciup.org/143180384
IDR: 143180384 | УДК: 343.575 | DOI: 10.55001/2312-3184.2023.76.31.025
Текст научной статьи Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия
Противодействие наркобизнесу продолжает оставаться одной из ключевых задач для правоохранительных органов. С целью определения основных направлений такого противодействия в 2020 году была принята Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в которой отражены основные угрозы незаконного оборота наркотиков1 . По словам Министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева, «принципиальные решения, принятые в последние годы руководством страны, существенно скорректировали задачи и приоритеты деятельности государственных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков» [1, с. 6]. Авторы исследования, проводимого Институтом социологии федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, также отмечают, что «в результате реализации антинаркотической политики (2010–2020 гг.) ситуация с распространением наркотиков в России в последние годы стабилизировалась, однако состояние остается напряженным» [2, с. 16]. Для дальнейшего совершенствования деятельности на данном направлении необходимо проанализировать эффективность принятых решений, в том числе через призму судебно-следственной практики, сложившейся в процессе расследования наркопреступлений.
На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тенденция снижения числа наркопреступлений. Если анализировать статистические данные за последние десять лет, то можно отметить, что в период с 2013 по 2017 гг. наблюдались «качели», т. е. резкий рост и снижение числа регистрируемых преступлений, чередующиеся друг с другом ежегодно (см. табл. 1)2. Необходимо также отметить, что в 2022 году прогнозируется продолжение снижения количества наркопреступлений, поскольку уже по итогам десяти месяцев 2022 года видно, что анализируемый показатель меньше показателя предыдущего года на 1,7 %.
Таблица 1
Сведения о количестве ежегодно регистрируемых наркопреступлений в Российской Федерации за период с 2013 по 2022 гг.
|
Отчетный период |
Число зарегистрированных наркопреступлений |
Число преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ |
Число зарегистрированных фактов сбыта |
|
2013 |
231 462 |
218 620 |
108 874 |
|
2014 |
254 730 |
243 739 |
126 233 |
|
2015 |
236 939 |
229 758 |
118 521 |
|
2016 |
201 165 |
196 271 |
99 052 |
|
2017 |
208 681 |
203 393 |
107 446 |
|
2018 |
200 306 |
194 155 |
112 854 |
|
2019 |
190 197 |
183 899 |
112 651 |
|
2020 |
189 905 |
182 600 |
112 267 |
|
2021 |
179 732 |
172 092 |
103 446 |
|
10 месяцев 2022 |
154 300 |
148 366 |
96 422 |
Снижение показателей по данным преступлениям сложно оценить однозначно ввиду их высокой латентности, обусловливающей зависимость показателя от работы правоохранительных органов, направленной на выявление преступлений. С одной стороны, можно говорить о положительном результате предупредительной деятельности правоохранительных органов, с другой – о совершенствовании способов сокрытия следов преступлений наркодилерами.
Следует также отметить увеличение удельного веса фактов сбыта наркотиков в общей массе зарегистрированных преступлений. Так, если в 2013 году сбыт составлял 47 % от общего числа наркопреступлений, то в 2021 году данный показатель составил 57,6 %, а по итогам десяти месяцев 2022 года – 62,5 %. Анализируемый показатель свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов на данном направлении.
Вместе с тем, несмотря на положительные результаты, которых удалось добиться на направлении профилактики и своевременного выявления наркопреступлений, в судебно-следственной практике обозначились некоторые разночтения относительно квалификации. К таковым можно отнести следующие:
-
1) относительно наличия признаков множественности преступлений в действиях лица, сделавшего несколько закладок;
-
2) относительно наличия в действиях участников наркопреступлений предварительного сговора;
-
3) относительно действий посредника в сбыте и приобретении наркотиков;
-
4) относительно наличия в действиях лиц, без цели сбыта хранивших наркотики по просьбе их владельца, признаков соучастия в сбыте наркотиков.
Относительно вопроса о наличии множественности интересно рассмотреть кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации в отношении А., сделавшего двадцать закладок амфетамина (каждая – в крупном размере) на территории лесопарка в относительно небольшие промежутки времени между каждой закладкой.
Суд первой инстанции квалифицировал действия А. как совокупность двадцати преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере). Судом апелляционной инстанции решение в части квалификации оставлено без изменения. Кассационным судом общей юрисдикции приговор и апелляционное определение изменены, действия А. признаны неоконченными преступлениями, дана квалификация двадцати преступлений по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ.
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор и определения судов апелляционной и кассационной инстанций изменены. В процессе рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу, что имеет место единое продолжаемое преступление, а не совокупность преступлений, о чем свидетельствует направленность умысла (размещение всех двадцати закладок охватывалось единым умыслом), относительно небольшой промежуток времени между закладками, ограниченная территория размещения закладок (лесопарк). Судебная коллегия квалифицировала действия А. как единое продолжаемое покушение на сбыт психотропного вещества (амфетамина) в крупном размере3. Действительно, по смыслу закона подобное совершенному А. деяние не может рассматриваться как совокупность преступлений. Им была получена единовременно уже расфасованная партия амфетамина, и оставалось лишь разнести пакеты из этой партии по разным местам. Именно такой порядок действий обсуждался А. с организатором сбыта. Однозначно в данном случае речь идет о едином продолжаемом преступлении. Однако в данном решении остался, на наш взгляд, не в полном объеме освещенным вопрос относительно признания действий А. покушением на преступление, а не оконченным преступлениям. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 13.1 постановления от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – постановление № 14) указал, что сбыт будет считаться оконченным, если виновный выполнил все зависящие от него действия и независимо от того, получил ли приобретатель товар. В том числе оконченным сбытом считаются случаи, когда виновный передает товар в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Пленум аргументировал данное положение тем, что диспозиция ст. 2281 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака состава преступления последствия в виде распространения соответствующего предмета преступления, а, следовательно, такой состав преступления считается формальным. В этой связи вызывает сомнения квалификация действий А. как неоконченного преступления. Как видно из материалов дела, А. успел разложить все двадцать пакетов и начал удаляться с территории совершения преступления. При выходе из лесопарка А. был задержан сотрудниками полиции. Фактически же сбыт уже состоялся. Покушением на сбыт наркотиков действия А. могли бы быть признаны лишь в том случае, если бы в его обязанности входило информирование наркоприобретателя о месте закладки [3, с. 47]. Но, как видно из материалов дела, такой задачи перед ним поставлено не было.
Приведем в пример другой случай, когда действия виновных были квалифицированы как покушение на сбыт наркотических средств. А. и В. хранили в рюкзаке наркотическое средство с целью его сбыта. Договорившись с покупателем, А. и Б. отправились на встречу с ним. Не успев в ходе встречи передать наркотики покупателю, А. и Б. были задержаны сотрудниками полиции 4 . В данном случае Преступники не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, не выполнили всех действий, образующих объективную сторону деяния, а только часть их (нашли покупателя, договорились о сделке и приступили к реализации договоренности).
Относительно вопроса о предварительном сговоре меду участниками конкретного наркопреступления в ряде случаев также возникают судебные разногласия. Показательным является кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции по делу А. и Б., признанных виновными в приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере5. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Б. оплатил наркотическое средство, после чего продавец сообщил ему о месте закладки. Б. попросил А. забрать наркотическое средство из места закладки с целью последующего совместного его употребления, на что А. ответил согласием. В установленное время А. забрал наркотическое средство из места закладки, положил в карман куртки, чуть позже на это же место приехал Б. Встретившись, они решили найти удобное место для употребления наркотика. Все это время по общей договоренности между фигурантами наркотическое средство находилось в кармане куртки А. В ходе предварительного расследования действия А. и Б. были квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере). Указано, что преступление совершено А. и Б. группой лиц по предварительному сговору. Суд первой инстанции согласился с квалификацией, однако, указал что преступление совершено А. и Б. группой лиц, но без предварительного сговора, поскольку к моменту начала преступных действий соучастника Б. уже выполнил часть объективной стороны приобретения наркотического средства (оплатил покупку и получил информацию о местонахождении закладки). Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а суд кассационной инстанции отменил приговор ввиду допущенных процессуальных нарушений. В данном случае замечание суда справедливо, поскольку преступные деяния А. и Б. включают ряд разнородных действий, часть из которых, действительно, была совершена Б. изначально без договоренности с А.
В этом же приговоре интересно решение рассмотреть вопрос о пособничестве незаконному обороту наркотиков. Б. осуществлял покупку наркотического средства через посредника Н., функции которого заключались в том, чтобы принять перевод денежных средств от покупателя, перевести указанные денежные средства продавцу, получить от продавца информацию о месте закладки и сообщить ее покупателю. Другими словами, Н. выполнял функцию оператора системы. Судом действия Н. квалифицированы по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ как пособничество в приобретении наркотического средства в крупном размере. Квалификация в данном случае не вызывает сомнений ввиду того, что сам Н. непосредственного отношения к наркотическому средству не имел. Иначе дело обстоит в ситуации с так называемыми «бегунками», которые физически переносят наркотики от продавца покупателю. Их действия могут быть оценены либо как соисполнительство в сбыте, либо как сбыт в случае, если они по договоренности с покупателем приобретают для него наркотическое средство у продавца, а затем уже сами продают покупателю. В таком случае они фактически выполняют объективную сторону сбыта наркотиков, а потому должны быть признаны исполнителями сбыта, а не перевозчиками.
Положение о признании посредников соисполнителями в сбыте обусловлено позицией Верховного Суда Российской Федерации. Считается, что лицо, приобретающее по просьбе другого лица и за его же деньги наркотические средства, не является само по себе сбытчиком, поскольку наркотические средства фактически ему не принадлежат (в отличие от второй приведенной в пример ситуации, когда посредник фактически является перекупщиком и наркотики находятся в его владении в течение определенного периода). Так, О. передал деньги Г. и попросил последнего приобрести для О. наркотические средства, что Г. и сделал. Суд квалифицировал действия Г. как исполнителя в сбыте наркотиков. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил данное решение, указав, что: «Купленный на деньги О. героин принадлежал ему, и он не «приобрел» это наркотическое средство у Г. в том смысле, который заложен законодателем в это понятие, а как владелец получил свое имущество». В связи с этим действия Г. и О. должны квалифицироваться как приобретение наркотика без цели сбыта группой лиц [4, с. 56.].
Эта позиция была принята неоднозначно в науке уголовного права. Основными контраргументами выступили следующие:
-
- противоречащая ГК РФ трактовка момента возникновения права собственности (п. 1 ст. 223 ГК РФ указывает, что право собственности у приобретателя движимой вещи возникает в момент ее передачи лично приобретателю, а не посреднику) [5, с. 125];
-
- избирательность применения гражданско-правовых положений (когда не учитывается возможность заключения между покупателем и посредником договоров о возмездном оказании услуг ли агентировании) [4, с. 59];
-
- ошибочность применения гражданско-правовых норм к противозаконным сделкам, являющимся ничтожными [4, с. 67].
Следует отметить, что Верховный Суд Российской Федерации менял свою позицию по данному вопросу, квалифицируя действия виновных как приобретение и хранение. Однако в упомянутом постановлении № 14 в 2015 году окончательно была сформирована позиция, согласно которой подобное посредничество все должно расцениваться как соисполнительство в незаконном сбыте наркотиков (п. 15.1).
Вопросы вызывает квалификация действий лиц, без цели сбыта хранивших наркотики по просьбе их владельца. Являются ли они соисполнителями сбыта, учитывая факт их осведомленности о последующей судьбе хранимых наркотических средств, либо несут ответственность только за хранение?
По логике закона данные лица ответственны только за хранение наркотиков, без вменения им приобретения и без признания их соучастниками в сбыте. Фактически, когда наркотическое средство передается хранителю, оно не утрачивает принадлежности передавшему его лицу, а, соответственно, не является приобретением для хранителя. Объективную сторону сбыта хранитель также не выполняет, если только не имеет место ситуация, когда место, где хранитель держит наркотики, не является своего рода местом закладки, откуда покупатель забирает оставленные на хранение продавцом наркотические средства. В таком случае роль хранителя меняется на роль соисполнителя в сбыте, т. к. по факту он принимает предмет преступления от одного лица, а передает другому лицу, фактически выполняя часть объективной стороны сбыта.
Интересен вопрос о продолжительности хранения наркотических средств, необходимой для признания такого действия самостоятельным преступлением. Пункт 7 постановления № 14 гласит, что для квалификации деяния как незаконного хранения не имеет значения продолжительность хранения. Вместе с тем, в марте 2022 года, рассматривая кассационную жалобу гражданина, осужденного за незаконное приобретение и хранение наркотиков и просившего исключить из квалификации указание на хранение, Верховный Суд Российской Федерации указал на невозможность вменения лицу, забравшему наркотическое средство из тайника и задержанному сразу после изъятия, состава хранения, так как у лица фактически еще отсутствует возможность владеть и распоряжаться таким наркотическим средством 6 . Данное судебное решение создало прецедент. Однако речь в нем по-прежнему не идет об установлении конкретного периода хранения для признания деяния преступным. Верховный Суд Российской Федерации лишь подчеркнул, что хранение и вовсе еще не началось в случае, когда приобретатель задержан сразу при получении наркотика, а фактами, свидетельствующими о начале хранения, будет выступать появление у приобретателя возможности беспрепятственно владеть наркотическим средством.
Данный вывод суда совпадает и с предыдущими решениями вопроса. Так, в 2021 году Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции исключила из приговора в отношении осужденного П. указание на незаконное хранение наркотического средства ввиду того, что П. был задержан в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сразу после приобретения наркотического средства 7 . Аналогичное решение принято при рассмотрении кассационной жалобы по делу К.8.
Учитывая подобную судебную практику, можно утверждать, что в случае задержания лица, собравшего растения, содержащие наркотические средства, непосредственно после их сбора, неправильно было бы вменять данному лицу состав хранения соответствующего предмета. Приведем в подтверждение своей позиции апелляционное постановление Алтайского краевого суда. В суд поступила апелляционное представление прокурора об изменении приговора суда в отношении Ж. в связи с рядом обстоятельств, среди которых неправильное применение уголовного закона, выразившееся в излишнем вменении осужденному состава хранения наркотического средства. Преступление совершено Ж. при следующих обстоятельствах. Находясь на участке местности (в поле), Ж. собрал дикорастущую коноплю. В момент сбора он был замечен нарядом полиции, который не смог подъехать к месту сбора ввиду затрудненной дороги. Дождавшись, когда Ж. покинет место сбора, сотрудники полиции задержали его. При этом расстояние, которое Ж. прошел от места сбора до места задержания, составило не более 30 м. Органами предварительного следствия и судом действия Ж. квалифицированы как незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Рассматривая апелляционное представление прокурора, суд апелляционной инстанции справедливо сослался на постановление № 14 в части того, что продолжительность хранения наркотического средства не имеет значения для вменения данного состава, вместе с тем указал на необходимое наличие возможности распорядиться приобретенными наркотическими средствами, иначе, если такая возможность отсутствует, состав хранения также отсутствует. Итогом рассмотрения данного апелляционного представления стало исключение из приговора квалификации содеянного как хранения наркотического средства9.
Полагаем, что ввиду достаточно большого количества допускаемых правоприменителем в подобных случаях ошибок, можно рекомендовать Пленуму Верховного суда Российской Федерации уточнить пункт 7 постановления № 14, указав в нем на необходимое наличие возможности распорядиться предметом преступления.
Обобщая рассуждения о групповом характере наркопреступлений, вызывающем сложности квалификации в ряде случаев, отметим, что организационная структура наркобизнеса отличается высокой степенью упорядоченности и делением на зоны ответственности. Отдельными авторами даже предпринимаются попытки выделения уровней такой структуры. Например, О.А. Решняк указывает, что существует три уровня организации наркобизнеса: организационно-управленческий, организационно-обеспечивающий и исполнительский [6, с. 158–159].
Один из важных вопросов квалификации касается легализации (отмывания) денежных средств, полученных от наркобизнеса. Среди рисков легализации денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, ученые-правоведы называют использование систем денежных переводов, иностранных юридических лиц, электронных средств платежа, наличных денежных средств и банковских карт, оформленных на подставных лиц, виртуальных активов [7, с. 14.]. Уход легализации преступных доходов от наркобизнеса и самого наркобизнеса в виртуальное пространство существенно осложняет в ряде случаев квалификацию деяний. Преступниками практически во всех интернет-магазинах, входящих в интернет-площадки, при проведении сделок, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков, используется криптовалюта [8, с. 190.]. Она же используется и для последующей легализации прибыли. Интересно, что даже «заработную плату» участники поставленного на поток наркосбыта получают в криптовалюте [9, с. 14]. Так, ст. ст. 174 и 1741 УК РФ описывают объективную сторону легализации как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Если вести речь о криптовалюте, то сделки с ней до недавнего времени к указанным в статьях о легализации отнести было нельзя ввиду ее неопределенного правового статуса, что порождало проблемы в калификации. По факту добытые преступным путем денежные средства переводились в криптовалюту, затем криптовалюта продавалась, а денежные средства от ее продажи приобретали статус полученных законным путем. Совершалась в чистом виде легализация преступных доходов, однако, указанные операции не подпадали под описание объективной стороны данного преступного деяния, закрепленное в уголовно-правовой норме. Сегодня действует Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»10. Данный закон разрешил правоприменителю приравнивать криптовалюту к имуществу при рассмотрении вопроса о наличии признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 1741 УК РФ.
Последняя проблема, которую необходимо рассмотреть в рамках данной статьи – отличие производства наркотиков от их изготовления. Пленум Верховного Суда Российской Федерации не позволяет однозначно решить принципиальный вопрос отличия этих процессов друг от друга. Справедливо утверждение Э. Н. Жевлакова о том, что возникает путаница, приводящая к нарушению принципа справедливости при квалификации [10, с. 73]. Так, п. 9 постановления № 14 предлагает определение изготовления наркотических средств, ответственность за которое наступает по ст. 228 УК РФ, а п. 12 постановления № 14 раскрывает содержание термина «производство», преследуемого законом в соответствии со ст. 2281 УК РФ. Судя по определениям, принципиальное отличие состоит лишь в серийности.
Вместе с тем не всегда бывает возможно доказать многоэпизодность преступления. Другой же вопрос состоит в том, что, устанавливая такое деление, законодатель фактически сводит к нулю положения о множественности преступлений и едином продолжаемом преступлении. По смыслу уголовного закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации изготовление – это частный случай производства наркотических средств. Вместе с тем, если сравнить, к примеру, кражу единичную простую и единую продолжаемую, выяснится, что принципиального отличия нет. В разделении составов преступлений на изготовление и производство решающую роль играет общественная опасность посягательства. В первом случае деяние не направлено на распространение наркотиков, во втором же – подвергает угрозе здоровье большого количества людей. Логика понятна и неопровержима. Суть проблемы заключается в квалификации случаев, когда все доказательства указывают на производство, между тем ни один факт сбыта еще не зафиксирован и не установлена договоренность между производителем и приобретателем крупной партии наркотиков.
В этой связи полагаем, что необходимо пересмотреть подходы к производству и изготовлению наркотиков и квалифицировать деяние как производство только при наличии установленных фактов сбыта хотя бы одной партии наркотических средств приобретателю, а в остальных случаях рассматривать содеянное как изготовление. В качестве примера судебной ошибки можно привести приговор Пермского краевого суда от 9 июля 2020 г., по которому Г. и К. осуждены за производство психотропного вещества в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Г. и К. в доме из приобретенных реактивов, ингредиентов и веществ, в том числе, соляной кислоты, используя химико-лабораторную посуду и бытовую кухонную вытяжку, совместно незаконно создали вещество, содержащее в своем составе психотропное вещество общей массой 1 507,357 гр., что соответствует особо крупному размеру. Суд, квалифицируя их действия как производство указал на следующие особенности: уровень организации труда (использование лабораторной химической посуды, нескольких шредеров, приспособленное помещение с вытяжкой, изготовление психотропного вещества партией, распределение обязанностей), цикличность производимых операций.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила квалификацию с производства на изготовление, указав, что выводы суда первой инстанции противоречат установленным обстоятельствам. Судебная коллегия также отметила, что основным отличительным признаком производства является серийность, которая выражается в изготовлении наркотиков периодически повторяющимися партиями с регулярными промежутками времени. Длительный технологический процесс, направленный на создание одной партии наркотика не может быть признан производством11.
Приведенные в пример судебные решения демонстрируют ряд неразрешенных проблем в правоприменительной практике. Тенденции современной наркопреступности связаны с ее уходом в киберпространство как в части распространения наркотиков, так и в части легализации доходов от наркобизнеса, в связи с чем предупредительные меры должны формироваться с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Следует пересмотреть ряд рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации с целью получения более четкого представления о границах конкретных преступных деяний для верной квалификации содеянного.
Список литературы Обзор судебной практики по делам о наркопреступлениях: тенденции и противоречия
- Колокольцев, В. А. "Наша стратегическая задача - подрыв экономических основ наркопреступности" // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 6-1.
- Позднякова, М. Е., Брюно, В. В. Сравнительный социологический анализ изменений ситуации с потреблением наркотиков в России за 30 лет: 1990-2020 гг. // Вопросы наркологии. 2021. № 5. С. 15-51.
- Габеев, С. В. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых посредством использования цифровых технологий. В книге: Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования. - Иркутск: ВСИ МВД России, 2021. С. 42-51.
- Шевченко, Е. Н. Соучастие в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков: проблемы квалификации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. 236 с.
- Федорюк С. Ю. Проблемы уголовно - правовой регламентации ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: дис. … канд юрид. наук. Ставрополь, 2004. 197 с.
- Решняк О. А. О некоторых вопросах расследования незаконного сбыта синтетических наркотиков, совершенного бесконтактным способом / О.А. Решняк // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 2. С. 156-161.
- Бархатова, Е. Н., Габеев, С. В. Уголовно - правовые средства противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем: учебное пособие. Иркутск: ВСИ МВД России, 2021. 76 с.
- Демко, Н. М., Исаков Р.В. Интернет - площадки как новая модель бесконтактного сбыта наркотиков // Научный компонент. 2020. № 3. С. 186-191.
- Витовская, Е. С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Новокузнецк, 2021. 98 с.
- Жевлаков, Э. Н. Квалификация незаконного оборота наркотиков: какие проблемы создает разъяснение пленума ВС РФ / Э.Н. Жевлаков // Уголовный процесс. 2020. № 5. С. 70-75.