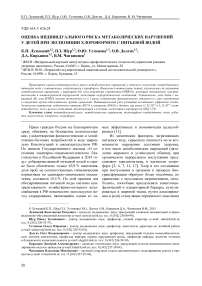Оценка индивидуального риска метаболических нарушений у детей при экспозиции хлороформом с питьевой водой
Автор: Лужецкий К.П., Шур П.З., Устинова О.Ю., Долгих О.В., Кирьянов Д.А., Чигвинцев В.М.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска
Статья в выпуске: 4 (12), 2015 года.
Бесплатный доступ
Приводится оценка индивидуального риска метаболических нарушений у детского населения, потребляющего питьевую воду с повышенным содержанием хлороформа. Выявлены контингенты детей, угрожаемых по развитию метаболических нарушений, с вариацией AG гена рецептора серотонина (HTR2A), имеющих повышенную чувствительность к внешнесредовой пероральной экспозиции хлорорганических соединений. Установлено, что дети с вариацией AG гена HTR2A имеют пониженное (в 1,3 раза) содержание функционально связанного с ним серотонина в сыворотке крови относительно группы сравнения. Индивидуальный риск развития негативных эффектов (метаболические нарушения: избыточное питание Е67.8 и ожирение Е66.0) у данных лиц выше (1,32·10 -4 и 1,12·10 -4 соответственно), чем в целом в популяции, проживающей в условиях экспозиции хлороформом (HQ 1,72).
Индивидуальный риск, метаболические нарушения, полиморфизм кандидатных генов, избыток массы тела, ожирение, хлороформ
Короткий адрес: https://sciup.org/14237925
IDR: 14237925 | УДК: 614.7:
Текст научной статьи Оценка индивидуального риска метаболических нарушений у детей при экспозиции хлороформом с питьевой водой
Право граждан России на благоприятную среду обитания, на безопасное водопользование, удовлетворение физиологических и хозяйственно-бытовых потребностей в воде закреплено Конституцией и законодательством РФ. По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Российской Федерации в 2014 году» доброкачественной питьевой водой в стране было обеспечено только 63,9 % населения, доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 15,5 %. По этой причине для обеззараживания питьевой воды системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в РФ повсеместно используется метод хлорирования, являющийся одним из са- мых эффективных и экономически целесообразных [11].
Из химических факторов, загрязняющих питьевую воду, серьезную опасность из-за возможности нарушения состояния здоровья, в том числе метаболических нарушений (патологии жирового и углеводного обмена), при хроническом пероральном поступлении представляют тригалометаны, в частности хлороформ [2, 4, 7, 11, 17]. Хлор и его соединения при поступлении в организм в процессе биотрансформации образуют более токсичные, по сравнению с исходными загрязнениями, метаболиты, способные преодолевать гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, кумулироваться в жировой ткани, путем алкилирования и (или) стимуляции перекисного окисления
липидов повреждать плазматические и внутриклеточные мембраны, запуская кальциевые механизмы гибели клеток и нарушение липидного обмена [1]. Повышенное содержание в питьевой воде хлорорганических соединений (ХОС) является значимой причиной опасности для здоровья населения, увеличивает уровень общей и детской заболеваемости, является фактором риска развития патологии регуляторных систем и основных видов обмена [3, 6, 7]. Метаболические нарушения (избыток массы тела и ожирение) развиваются в первую очередь на фоне несбалансированного питания, имеют многофакторную природу и наследственную предрасположенность, при этом модулирующая роль факторов среды обитания приобретает все более весомое значение [12, 13].
По данным литературы вероятность развития негативных эффектов воздействия техногенных факторов среды обитания обусловлена индивидуальной чувствительностью организма человека [8, 18]. В гигиенических нормативнометодических документах под термином «индивидуальный риск здоровью» понимают возможность развития негативных изменений здоровья от воздействия факторов среды обитания в течение определенного периода времени для кого-либо из представителей в группе, что не позволяет учитывать персональные конституциональные особенности отдельных индивидуумов [5, 15, 16]. В контексте настоящего исследования под термином «индивидуальный риск» подразумевается вероятность развития негативных изменений здоровья определенной тяжести от воздействия факторов опасности с учетом биологических, например генетических, характеристик конкретного индивидуума.
В этой связи количественная оценка риска здоровью, связанного с воздействием факторов опасности, учитывающая индивидуальные особенности биологического статуса организма человека, приобретает особое значение.
Цель исследования – провести оценку индивидуального риска метаболических нарушений у детей при экспозиции хлороформом с питьевой водой.
Материалы и методы. Гигиеническая оценка качества питьевой воды по содержанию хлороформа выполнена на примере территорий Пермского края, население которых при централизованном хозяйственно-питьевом водоснабжении постоянно потребляет воду с повышенным содержанием ХОС. Питьевое водоснабжение населения территорий исследования осуществляется из поверхностных водозаборов, сооружения очистки которых в технологии водоподготовки применяют дезинфектанты (жидкий хлор или гипохлорит натрия). Оценка полученных концентраций ХОС в питьевой воде выполнена на основании сравнительного анализа с предельно допустимыми концентрациями в воде водных объектов в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Использованы результаты мониторинговых наблюдений за период 2013–2014 гг. (данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») и натурных исследований (данные ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения»).
Группу наблюдения составили 212 детей (114 мальчиков и 98 девочек) в возрасте 4–10 лет (в среднем 6,33±1,63 г.), в течение длительного времени потребляющих питьевую воду ненормативного качества по содержанию хлороформа – до 2,8 ПДК (0,15–0,17 мг/л, доля нестандартных проб – 78–100 %). В группу сравнения вошли 146 детей (78 мальчиков и 68 девочек, р ≥0,05) аналогичного возраста (6,07±1,74 г., р ≥0,05), потребляющих питьевую воду, соответствующую гигиеническим нормативам (содержание хлороформа – 0,0003– 0,0004 мг/л). Других загрязняющих питьевую воду веществ, превышающих ПДК и способных оказывать негативное влияние на эндокринную систему и гормоногенез, выявлено не было. Группы исследования были сопоставимы по возрасту, полу, этническому составу, сопутствующей патологии, социально-экономическому уровню семьи, качеству и рациону питания.
Содержание хлороформа в крови рассматривалось для каждого обследуемого в качестве маркера экспозиции [4, 6, 22]. Определение уровня хлороформа в крови детей выполнялось методом анализа равновесной паровой фазы на газовом хроматографе «Кристалл-5000» с капиллярной колонкой DB-624 и селективным детектором электронного захвата в соответствии с МУК 4.1.2115-06.
Показатели, характеризующие вариации 9 патогенетически значимых для развития метаболических (в том числе антиоксидантных) нарушений генов (глутатионтрансферазы (GSTA4), сульфотрансферазы (SULTA), супероксиддис-мутазы-2 (SOD2), эстрогенового рецептора
(ESR1), серотонинового рецептора (HTR2A), белка сиртуина (SIRT1), гамма-рецептора пероксисом (PPARG), белка апо-E (APOE) и прогестеронового рецептора (NR3C1), идентифицировались как маркеры индивидуальной чувствительности (маркеры предрасположенности к негативным ответам на воздействие хлороформа). Для исследования полиморфных вариантов в изучаемых генах использовали методику ПЦР, в основе которой лежит реакция амплификации и детекция продуктов ПЦР. Отбор материала проводился методом взятия мазков со слизистой оболочки ротоглотки. Затем проводили выделение ДНК с помощью сорбентного метода. Для определения генотипа человека использовали метод аллельной дискриминации [10].
Моделирование влияния хлороформа на возможность формирования нарушений жирового и углеводного обмена как для всей субпопуляции, так и для наиболее чувствительных подгрупп выполнено в соответствии с МР 2.1.10.0062–12 [9] при помощи построения моделей логистической регрессии для различных уровней экспозиции. Вероятность развития различных форм нарушения жирового и углеводного обмена в зависимости от экспозиции (концентрация хлороформа в крови) у детей с вариациями генов описывалась логистической функцией:
_ 1 p i + e - b о + b i x )
Оценка риска здоровью ( R ) производилась с учетом вероятности ( p ) и тяжести ( g ) заболевания с использованием формулы R _ pg . Показатель тяжести формирования нарушений жирового и углеводного обменов (МКБ-10: E67.8 – избыток массы тела, E66.0 – ожирение) оценивался в соответствии со шкалой степени тяжести нарушений здоровья на уровне верхней границы для заболеваний легкой тяжести – 0,0004 [14].
Сравнение групп по количественным признакам осуществляли с использованием двухвыборочного критерия Стьюдента; оценку зависимостей между признаками – методом корреляционно-регрессионного анализа для количественных переменных. Значимость взаимосвязей и различия между выборками считались достоверными при р <0,05. Корреляционный анализ выполнен по методу Спирмена. Тесты на соблюдение равновесия Харди – Вайнберга и выявление ассоциаций методом Пирсона χ2 выполняли с помощью программы «ГенЭксперт»
(Государственный научный центр Российской Федерации «ГосНИИ генетика»). Исследуемые группы находились в равновесном (устойчивом) состоянии по частотам генотипов изученных генов ( р <0,05). Анализ полученной информации осуществлялся статистическими методами (Statistica 7.0) и с помощью специально разработанных программных продуктов, сопряженных с приложениями MS-Office.
Результаты и их обсуждение. По данным обращаемости за медицинской помощью в 2013 г. распространенность эндокринной патологии у детей, проживающих на территории исследования, составляла – 175,0 ‰, что в 2,3 раза выше уровня заболеваемости на территории сравнения – 74,9 ‰. В качестве приоритетной эндокринной патологии диагностировались различные формы нарушения жирового и углеводного обмена (избыточность питания – 17,4 ‰, ожирение – 30,6 ‰), уровень распространенности которых на протяжении последних трех лет в 4,2–7,0 и 6,4–8,5 раза превышал показатели территории сравнения (2,4–4,1 и 3,6–9,4 ‰ соответственно, р =0,001–0,041).
По данным химико-аналитического исследования крови диапазон индивидуальных концентраций хлороформа составлял от 0,01 до 6,0 мкг/л (в среднем по группе – 0,69±0,04 мкг/л, референтная концентрация – 0,0±0,0 мкг/л, р <0,01), что в 2,3 раза выше показателей группы сравнения (0,29±0,01 мкг/л) ( р <0,05).
В ходе проведенной оценки риска здоровью установлено, что при пероральном поступлении с питьевой водой хлороформа у экспонированных детей формируется неприемлемый неканцерогенный риск развития патологии эндокринной системы ( HQ =1,72).
По результатам углублённого клинического врачебного обследования патология эндокринной системы в общей структуре заболеваний в группе наблюдения занимала третье ранговое место и диагностировалась в два раза чаще (23,8 %), чем в группе сравнения (10,7 %), при этом отношения шансов составили – ОШ=2,39; ДИ 0,84–6,82; р ≥0,05. В качестве основных нозологических форм в структуре заболеваемости детей из группы наблюдения преобладали: избыточное питание (E67.8) – 10,7 % и ожирение (E66.0) – 5,3 %, что в 2,4 раза чаще, чем в группе сравнения (4,3 и 2,2 % соответственно).
По данным генетического тестирования у детей, длительное время проживающих в условиях пероральной экспозиции ХОС и потребляющих питьевую воду с повышенным со- держанием хлороформа, полиморфизм канди-датных генов HTR2A и SOD2 характеризовался увеличением в 1,7–2,0 раза частоты встречаемости мутантного гомозиготного и гетерозиготного генотипа относительно группы сравнения (р=0,001–0,005) (табл. 1).
В процессе моделирования не было выявлено достоверных различий вариаций гена су-пероксиддисмутазы-2 (SOD2) от показателей в целом по выборке. Следовательно, вариации этого гена нецелесообразно рассматривать как маркеры чувствительности изменений эндокринной системы под воздействием хлороформа. В качестве маркера индивидуальной чувствительности к экспозиции хлороформа для развития метаболических нарушений в дальнейшем анализировалась вариация гена серотонинового рецептора (HTR2A) [19, 21].
По результатам генетического обследования распространенность в исследуемой выборке вариации АА гена HTR2A достигает 50,5 %, вариации AG – 33,3 %, вариации GG – 16,2 %.
При оценке индивидуального риска для выборки в целом определены коэффициенты, характеризующие зависимость вероятности формирования метаболических нарушений – избыточного питания (b0=–2,13, b1=238,4) и ожирения от экспозиции хлороформом (b0=–3,25, b1=294,6). Параметры моделей для данной зависимости, определяющие индивидуальную чувствительность, составили: при избыточности питания для детей с вариацией АG гена HTR2A b0=–3,68, b1=364,7, с вариацией АА – b0=–3,68; b1=336,1; при ожирении для детей с вариацией AG – b0=–4,42; b1=486,1, с вариацией AА – b0=–4,65; b1=17,68.
Результаты оценки риска здоровью, представленные в табл. 2, свидетельствуют о различии в индивидуальной чувствительности к экспозиции хлороформом у детей с вариациями гена HTR2A, определяющего передачу сигнала к рецептору серотонина и патогенетически связанного с формированием нарушений жирового и углеводного обмена. Обращает на себя внимание, что если в изучаемой субпопуляции в целом уровень риска здоровью, проявляющийся развитием метаболических нарушений, оценивается как приемлемый во всем диапазоне
Таблица 1
Распространенность полиморфизма генов у детей, включенных в исследование
|
Ген |
Генотип/аллель |
Группа наблюдения ( n =24) |
Группа сравнения ( n =24) |
р |
||
|
Распространенность, абс. (относ. %, М ± m ) |
Частота |
Распространенность, абс. (относ. %, М ± m ) |
Частота |
|||
|
APOE |
T |
30 (62,5±6,9) |
0,62 |
34 (70,8±6,5) |
0,71 |
0,51 |
|
C |
18 (37,5±6,9) |
0,37 |
14 (29,2±6,5) |
0,29 |
||
|
TT |
6 (25,0±8,4) |
0,25 |
10 (41,7±10,7) |
0,42 |
0,22 |
|
|
TC |
18 (75,0±8,4) |
0,75 |
14 (58,3±10,7) |
0,58 |
0,22 |
|
|
CC |
0 (0,0±0,0) |
0,00 |
0 (0,0±0,0) |
0,00 |
1,0 |
|
|
HTR2A |
A |
14 (31,8±6,7) |
0,32 |
24 (54,7±7,2) |
0,55 |
0,11 |
|
G |
30 (68,2±6,7) |
0,68 |
20 (45,5±7,2) |
0,45 |
||
|
AA |
2 (9,1±5,8) |
0,09 |
10 (45,5±10,6) |
0,45 |
0,005 |
|
|
AG |
10 (45,5±10,2) |
0,45 |
4 (18,2±7,9) |
0,18 |
0,04 |
|
|
GG |
10 (45,5±10,2) |
0,45 |
8 (36,4±9,8) |
0,36 |
0,52 |
|
|
SOD2 |
C |
16 (36,4±6,9) |
0,36 |
34 (77,3±6,1) |
0,77 |
0,004 |
|
A |
28 (63,6±6,9) |
0,63 |
10 (22,7±6,1) |
0,23 |
||
|
CC |
2 (9,1±5,9) |
0,09 |
12 (54,5±10,2) |
0,54 |
0,001 |
|
|
CA |
12 (54,5±10,2) |
0,54 |
10 (45,5±10,2) |
0,45 |
0,53 |
|
|
AA |
8 (36,4 ±9,8) |
0,36 |
0 (0,0±0,0) |
0,00 |
0,001 |
|
|
PPARGС1А |
G |
26 (54,2±7,2) |
0,54 |
34 (70,8±6,5) |
0,71 |
0,22 |
|
A |
22 (45,8±7,2) |
0,46 |
14 (29,9±6,5) |
0,3 |
||
|
GG |
10 (41,7±10,1) |
0,42 |
12 (50,0±10,2) |
0,5 |
0,58 |
|
|
GA |
6 (25,0±8,8) |
0,25 |
10 (41,7±10,1) |
0,42 |
0,22 |
|
|
AA |
8 (33,3±9,6) |
0,33 |
2 (8,3±5,5) |
0,08 |
0,03 |
|
|
SULTA |
G |
28 (58,3±7,1) |
0,58 |
32 (66,7±6,8) |
0,67 |
0,52 |
|
A |
20 (41,7±7,1) |
0,42 |
16 (33,3±6,8) |
0,33 |
||
|
GG |
6 (25,0±8,8) |
0,25 |
12 (50,0±10,2) |
0,50 |
0,074 |
|
|
GA |
16 (66,7±9,6) |
0,67 |
8 (33,3±9,6) |
0,33 |
0,019 |
|
|
AA |
2 (8,3±5,5) |
0,08 |
4 (16,7±7,7) |
0,17 |
0,35 |
|
П р и м е ч а н и е: достоверность различий в группах исследования р ≤0,05.
Таблица 2
Результаты оценки индивидуального риска метаболических нарушений у детей с вариацией гена HTR2A при различном уровне содержания хлороформа в крови (уровень допустимого риска – менее 1 ⋅10–4)
Оценка индивидуального риска развития метаболических отклонений у детей и параметры моделей подтверждаются результатами им-муноферментного анализа уровня серотонина в сыворотке крови, функционально связанного с указанными вариациями гена HTR2A , отвечающего за пищевую мотивацию и кодирующего серотониновые рецепторы. У детей с гетерозиготным вариантом гена в условиях пероральной экспозиции хлороформом отмечается тенденция к снижению содержания серотонина в сыворотке крови в 1,3 раза (216,0±105,8 нг/мл) относительно такового в группе сравнения (282,8±136,3 нг/мл).
Выявленные отклонения нарушения синтеза серотонина через центральные механизмы регуляции могут способствовать изменению нормальной структуры пищевого поведения, потенцировать нарушения жирового и углеводного обмена [20].
Выводы. У экспонированных детей формируется неприемлемый неканцерогенный риск развития патологии эндокринной системы, связанный с пероральной экспозицией хлороформом с питьевой водой ( HQ =1,72). Индивидуальный риск здоровью при уровне маркера экспозиции (концентрация хлороформа в крови) в диапазоне от 0,01 до 6,0 мкг/л в целом по выборке характеризуется как допустимый (менее 1,0⋅10–4). В то же время у лиц с вариацией AG гена HTR2A начиная с уровня содержания хлороформа в крови более 5,17 и 5,79 мкг/л величина индивидуального риска формирования метаболических нарушений – избыточности питания и ожирения (МКБ: Е67.7-66.0) – может достигать недопустимых значений (1,32⋅10–4 и 1,12⋅10–4 соответственно).
Детей с вариацией AG гена HTR2A целесообразно рассматривать как контингенты, наиболее чувствительные к воздействию хлороформа, а данную вариацию генов как маркер индивидуальной чувствительности. К относительной серотониновой недостаточности, помимо несбалансированного питания, также может приводить потребление питьевой воды с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Выполненные исследования позволяют обосновать генетические показатели чувствительности к воздействию хлороформа для ранней донозологической диагностике метаболических нарушений и реализации технологий профилактики избыточности питания и ожирения (МКБ: Е67.7-66.0) у детей, потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Список литературы Оценка индивидуального риска метаболических нарушений у детей при экспозиции хлороформом с питьевой водой
- Внутренние болезни. Военно-полевая терапия: учебное пособие/под ред. А.Л. Ракова и А.Е. Сесюкина. -СПб.: Изд-во ФОЛИАНТ, 2003. -384 с.
- Воинцева И.И. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид для очистки и обеззараживания воды как альтернатива реагентам-окислителям//Вода: химия и экология. -2011. -№ 7, ч. 1. -С. 39-45.
- Гигиеническая оценка комплексного действия хлороформа питьевой воды/Т.И. Иксанова, А.Г. Малышева, Е.Г. Растянников, Н.А. Егорова, Г.Н. Красовский, М.Г. Николаев//Гигиена и санитария. -2006. -№ 2. -С. 8-12.
- Камилов Ф.К. Патохимия токсического действия хлорорганических и ароматических соединений//Медицинский вестник Башкортостана. -2007. -Т. 2, № 6. -С. 76-80.
- Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений: терминологический словарь/НП СРО «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности». -М., 2010. -76 с.
- Красовский Г.Н., Егорова Н.А. Хлорирование воды как фактор повышенной опасности для здоровья населения//Гигиена и санитария. -2003. -№ 1. -С. 17-21.
- Кузубова Л.И., Кобрина В.Н. Химические методы подготовки воды (хлорирование, озонирование, фторирование): аналит. обзор/СО РАН, ГННТБ, НИОХ. -Новосибирск, 1996. -132 с.
- Лужников Е.А. Клиническая токсикология. -2-е изд. перераб. и доп. -М.: Медицина, 1994. -256 с.
- МР 2.1.10.0062-12. Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе построения эволюционных моделей: методические рекомендации/Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. -М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. -36 с.
- МР 4.2.0075-13. Перечень маркеров генного полиморфизма, отвечающих за особенности мутагенной активности техногенных химических факторов: методические рекомендации. -М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2013. -24 с.
- Мазаев В.Т., Ильницкий А.П., Шлепина Т.Г. Руководство по гигиене питьевой воды и питьевого водоснабжения. -М.: Медицинское информационное агентство, 2008. -320 с.
- Ожирение и избыточный вес: информационный бюллетень ВОЗ № 311. Январь 2015 г. . -URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/. (дата обращения: 11.10.2015).
- Особенности эндокринных нарушений у детей, проживающих в условиях высокого риска ингаляционного воздействия бензола, фенола и без (а) пирена/К.П. Лужецкий, О.Ю. Устинова, О.А. Маклакова, Л.Н. Палагина//Анализ риска здоровью. -2014. -№ 2. -С. 97-103.
- Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. -М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. -143 с.
- Словарь терминов МЧС. -М., 2010. -206 с.
- Способ определения интегрального допустимого риска отдельных классов и видов продукции для здоровья человек: патент № 2368322 РФ/Н.В. Зайцева, И.В. Май, П.З. Шур, П.В. Трусов, М.П. Шевырева, Н.Н. Гончарук; заявитель и патентообладатель ГУЗ «Пермский краевой научно-исследовательский клинический институт экопатологии». -номер заявки 2008101258; дата регистрации 09.01.2008; опубл. 27.09.2009.
- Устинова О.Ю., Лужецкий К.П., Маклакова О.А. Хронический гастродуоденит у детей, потребляющих питьевую воду с повышенным содержанием марганца и продуктов гиперхлорирования//Фундаментальные исследования. -2014. -№ 7. -С. 795-797.
- Хайцев Н.В. Возрастные, половые и индивидуальные особенности ответных реакций организма при действии гипоксии и химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов: дис. … д-ра биолог. наук. -М., 1998. -337 с.
- Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain histamine//Prog. Neurobiol. -2001. -Vol. 63. -P. 637-672.
- Kim M., Bae S., Lim K. M. Impact of High Fat Diet-induced Obesity on the Plasma Levels of Monoamine Neurotransmitters in C57BL/6 Mice//Biomol. Therapeut. -2013. -Vol. 21, № 6. -P. 476-480.
- Nguyen T., Shapiro D.A., George S.R. . Discovery of a Novel Member of the Histamine Receptor Family//Mol. Pharmacol. -2001. -Vol. 59, № 3. -P. 427-433.
- White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants/Fifth Ed. -ILSI: Black&Veatch Corp., 2010. -1062 р.