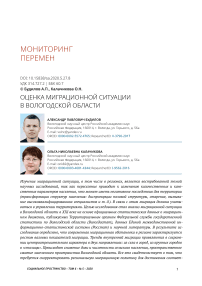Оценка миграционной ситуации в Вологодской области
Автор: Будилов Александр Павлович, Калачикова Ольга Николаевна
Журнал: Социальное пространство @socialarea
Рубрика: Мониторинг перемен
Статья в выпуске: 5 т.6, 2020 года.
Бесплатный доступ
Изучение миграционной ситуации, в том числе в регионах, является востребованной темой научных исследований, так как переселение приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, что может иметь негативные последствия для территории (трансформация структур населения: диспропорции половой структуры, старение, вымывание высококвалифицированных специалистов и т. д.). В связи с этим миграция должна учитываться в управлении территориями. Целью исследования стал анализ миграционной ситуации в Вологодской области в XXI веке на основе официальных статистических данных о миграционном движении, публикуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (Росстат) и научной литературы. В результате исследования определено, что современная миграционная обстановка в регионе характеризуется ростом валовых показателей миграции. Тренды внутренней миграции проявляются в сохранении центростремительного характера в двух направлениях: из села в город, из крупных городов в «столицы». Происходят снижение доли и численности сельского населения, пространственное сжатие заселенного пространства Вологодской области. Все это свидетельствует о том, что требуется скорректировать региональную миграционную политику для достижения соответствия потребностям экономического, социального и демографического развития региона. Прежде всего, следует проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом муниципальном районе и городе, необходимых условий для жизни. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.
Миграция, миграционные процессы, перемещение населения, причины миграции, регулирование миграции, миграционная политика, миграционная обстановка
Короткий адрес: https://sciup.org/147225557
IDR: 147225557 | УДК: 314.727.2 | DOI: 10.15838/sa.2020.5.27.8
Текст научной статьи Оценка миграционной ситуации в Вологодской области
Изучение миграционной ситуации, в том числе в регионах, является востребованной темой научных исследований, так как переселение приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, что может иметь негативные последствия для территории (трансформация структур населения: диспропорции половой структуры, старение, вымывание высококвалифицированных специалистов и т. д.). В связи с этим миграция должна учитываться в управлении территориями. Целью исследования стал анализ миграционной ситуации в Вологодской области в XXI веке на основе официальных статистических данных о миграционном движении, публикуемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (Росстат) и научной литературы. В результате исследования определено, что современная миграционная обстановка в регионе характеризуется ростом валовых показателей миграции. Тренды внутренней миграции проявляются в сохранении центростремительного характера в двух направлениях: из села в город, из крупных городов в «столицы». Происходят снижение доли и численности сельского населения, пространственное сжатие заселенного пространства Вологодской области. Все это свидетельствует о том, что требуется скорректировать региональную миграционную политику для достижения соответ- ствия потребностям экономического, социального и демографического развития региона. Прежде всего, следует проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом муниципальном районе и городе, необходимых условий для жизни. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.
Миграция, миграционные процессы, перемещение населения, причины миграции, регулирование миграции, миграционная политика, миграционная обстановка.
Вопросы перемещения населения стали волновать политиков и ученых со времени зарождения государственности, и с того момента их актуальность только возрастала [1–4]. Сегодня, в период выросшей транспортной доступности, информационной и технологической открытости, количество перемещений как внутри каждого государства, так и между ними существенно увеличилось, что при отсутствии должного внимания со стороны управленцев может повлечь за собой нарушение демографического баланса территорий, количественное и качественное изменение населения [5–9].
В последние годы в России стабильно сокращается численность жителей большинства регионов, что обуславливает особое значение миграции как источника формирования населения, так как в условиях депопуляции миграция является значимым фактором формирования численности и половозрастной структуры, этнического состава населения и др. [10–14]. Региональная власть может оперативно реагировать на происходящие демографические изменения и сглаживать их негативные последствия, поэтому особенно важными представляются изучение и регулярный мониторинг миграции на региональном уровне [15–20].
Среди отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся изучением миграционных вопросов, в первую очередь стоит отметить научные труды Е.В. Виноградовой, А.Г. Вишневского, О.Д. Воробьевой, Ж.А. Зайончков-ской, Т.И. Заславской, В.А. Ионцева, В.М. Ка-бузана, Л.Б. Качуриной, А.А. Кауфмана, М.А. Клупта, Л.В. Корель, Н.В. Мкртчяна,
В.М. Моисеенко, В.И. Мукомеля, В.И. Переве-денцева, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева, О.В. Староверова, А.В. Топилина, Б.С. Хорева, О.С. Чудиновских, Т.Н. Юдиной, Р.Е. Бил-сборроу, Х. Грэма, Д.М. Кейнса, Т. Мальтуса, А.С. Обераи, П. Самуэльсона, Дж. Саймона, Б. Томаса, М. Фридмана, Г. Алперовича, Дж. Бергмана, У. Изарда, З. Лианга, И. Лоури, Г. Мюрдаля, Е. Рейвенштейна, Г. Рида, С. Тибу, Ю. Хориба, З. Хания, Г. Ципфа и др.
В процессе разработки вопросов, связанных со статистическим исследованием миграции, большое значение имели труды С.А. Айвазяна, А.Я. Боярского, И.Г. Венецко-го, В.И. Венецкой, Г.Л. Громыко, Н. Дрейпера, Т.А. Дубровой, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, Е.В. Заровой, Ю.Н. Иванова, М.Дж. Кендалла, Г.С. Кильдишева, Д. Лоули, В.С. Мхитаряна, Дж.Э. Ханка, А.Дж. Райтса, Г. Смита, Д.У. Уичерна.
Вопросы изучения миграционных процессов на современном этапе, в том числе на региональном уровне, рассматриваются в немногочисленных работах К.А. Ваховской, О.Д. Воробьевой, В.С. Глушко, А.Р. Димаева, А.З. Намдакова, О.И. Овсиенко, Н.Н. Под-пориновой, Т.М. Регент, И.А. Романова, М.Л. Тюркина, А.В. Цыбульского, А.Ю. Червякова и др.
Выполненный анализ научных публикаций, монографий и методических материалов позволил прийти к выводу о необходимости более детального исследования миграции населения в России на региональном уровне. Исходя из этого, авторами была поставлена цель рассмотреть миграционную ситуацию в регионе в XXI веке на примере Вологодской области.
Общая миграционная ситуация в регионе за последний представленный в статистике год
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Вологодской области составила 1160445 человек, в том числе 843041 человек городского населения и 317404 – сельского. За 2019 год она уменьшилась на 7268 человек (0,6 процента).
Сокращение численности населения произошло за счет естественной убыли, составившей 5194 человека, и миграционной убыли – 2074 человека. В 2019 году из других регионов России прибыли в область 9942 человека, в то же время выбыли из нее в пределах Российской Федерации 12808 человек, миграционная убыль в обмене с регионами составила 2866 человек. Сальдо международной миграции было положительным – в область прибыли 792 человека (табл. 1).
Общие тенденции миграциив регионе в XXI веке
Вологодская область является типичным регионом Северо-Запада России, характеризуется умеренным миграционным оттоком и естественной убылью населения, относительно высокой долей сельского населения (27,4% общей численности населения на 2020 год). Регион находится на третьем месте в СЗФО по числу мигрантов и на втором – по интенсивности внутриобластной миграции.
Миграционный прирост с 2000 по 2011 год частично компенсировал естественную убыль населения Вологодской области (за исключением 2010 года, рис. 1 ). Начиная с 2012 года проблема миграционного оттока несколько обострилась, причем, как и в случае с естественной убылью населения, основные потери приходятся на муниципальные районы. Но поскольку основное направление миграции – из районов в крупные города области, проблема практически не отражается в статистике по региону в целом [21].
Анализ динамики прибытия и выбытия мигрантов, переселяющихся на постоянное место жительство в Вологодскую область, за 2000–2019 гг. показал, что интенсивность переселенческих потоков существенно возросла (рост показателей обусловлен,
Таблица 1. Миграция населения Вологодской области по потокам в 2019 году, чел.
|
Вид миграции |
Число прибывших |
Число выбывших |
Миграционный прирост (убыль) |
||||||
|
всего |
из городской местности |
из сельской местности |
всего |
в городскую местность |
в сельскую местность |
всего |
за счет городской местности |
за счет сельской местности |
|
|
Миграция (всего) |
28070 |
x |
x |
30144 |
x |
x |
-2074 |
x |
x |
|
Из нее в пределах России |
26297 |
16295 |
10002 |
29163 |
18203 |
10960 |
-2866 |
-1908 |
-958 |
|
В том числе внутрирегиональная |
16355 |
8151 |
8204 |
16355 |
7841 |
8514 |
0 |
310 |
-310 |
|
Межрегиональная |
9942 |
8144 |
1798 |
12808 |
10362 |
2446 |
-2866 |
-2218 |
-648 |
|
Международная миграция |
1773 |
x |
x |
981 |
x |
x |
792 |
x |
x |
|
В том числе со странами СНГ |
1718 |
x |
x |
947 |
x |
x |
771 |
x |
x |
|
С другими зарубежными странами |
55 |
x |
x |
34 |
x |
x |
21 |
x |
x |
|
Внешняя для региона миграция |
11715 |
x |
x |
13789 |
X |
x |
-2074 |
x |
x |
Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2019: стат. сб. / Вологдастат.
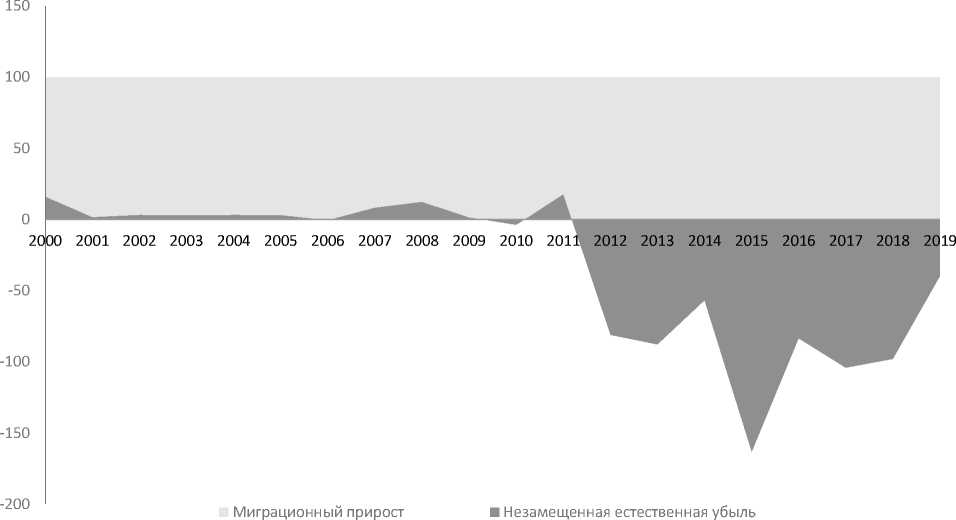
Рис. 1. Соотношение естественного и миграционного приростов, незамещенная естественная убыль в Вологодской области, 2000–2019 гг., %
Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.
в том числе, изменением системы учета миграции в 2011 году1): по прибывшим – в 2,9 раза, по выбывшим – в 3,0 раза. Это свидетельствует об увеличении мобильности населения в целом (рис. 2).
Отрицательное сальдо миграции Вологодской области преимущественно складывалось за счет межрегиональных перемещений. Начиная с 2006 года только в 2007, 2008, 2009 и 2011 гг. сальдо миграции было незначительно положительным.
Структура миграционных потоков в Вологодской области главным образом представлена внутрироссийскими и внутрирегиональными перемещениями: в 2000 году доля внутренней миграции по прибывшим составляла 93% (в 2019 году – 93,7%), по выбывшим 97,7% (в 2019 году – 96,7%). Доля международной миграции в 2000 и в 2019 гг. – 3,2%.
В соотношении внутрирегиональной и межрегиональной миграции за 2000–2019 гг. произошли небольшие изменения: увеличивается доля внутрирегиональных и сокращается доля межрегиональных перемещений.
Международная миграция представлена обменом населением между Вологодской областью и странами СНГ и дальнего зарубежья. В 2000–2019 гг. территориями – донорами мигрантов преимущественно являлись страны СНГ (94% международных мигрантов, прибывающих в Вологодскую область). Наиболее многочисленной группой стали выходцы из Украины, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Азербайджана. В миграционном обмене со странами дальнего зарубежья регион преимущественно теряет население, только в 2011, 2012, 2013 и 2019 гг. доля прибывших превышала долю выбывших (табл. 2).
Для большинства муниципальных районов Вологодской области (20 из 26) характерна миграционная убыль населения. Наибольшая убыль населения за исследуемый период была зафиксирована в Бабушкинском (в среднем коэффициент миграционного прироста составил 90,1‰ за период с 2000 по 2019 год), Кичменгско-Городецком (82,1‰), Белозерском (81,4‰), Харовском (76,4‰), Никольском (63,2‰), Вашкинском (62,8‰) районах.
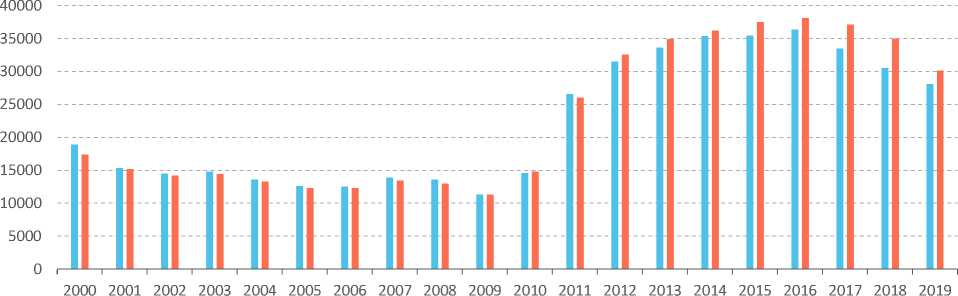
■ Прибывшие ■ Выбывшие
Рис. 2. Динамика прибывших и выбывших на постоянное место жительства по Вологодской области, 2000–2019 гг., чел.
Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.
Таблица 2. Международная миграция населения в Вологодской области, 2000–2019 гг.
|
Год |
С зарубежными странами, всего |
Страны СНГ и Балтии |
Дальнее зарубежье |
||||||
|
прибывшие |
выбывшие |
сальдо |
прибывшие |
выбывшие |
сальдо |
прибывшие |
выбывшие |
сальдо |
|
|
2000 |
1329 |
404 |
925 |
1302 |
284 |
1018 |
27 |
120 |
-93 |
|
2001 |
698 |
718 |
-20 |
670 |
623 |
47 |
28 |
95 |
-67 |
|
2002 |
718 |
251 |
467 |
691 |
185 |
506 |
27 |
66 |
-39 |
|
2003 |
439 |
219 |
220 |
424 |
147 |
277 |
15 |
72 |
-57 |
|
2004 |
414 |
200 |
214 |
400 |
100 |
300 |
14 |
100 |
-86 |
|
2005 |
706 |
214 |
492 |
699 |
131 |
568 |
7 |
83 |
-76 |
|
2006 |
592 |
214 |
378 |
581 |
111 |
470 |
11 |
103 |
-92 |
|
2007 |
966 |
165 |
801 |
940 |
85 |
855 |
26 |
80 |
-54 |
|
2008 |
1100 |
148 |
952 |
1064 |
95 |
969 |
36 |
53 |
-17 |
|
2009 |
756 |
145 |
611 |
744 |
83 |
661 |
12 |
62 |
-50 |
|
2010 |
456 |
151 |
305 |
432 |
103 |
329 |
24 |
48 |
-24 |
|
2011 |
2121 |
209 |
1912 |
1877 |
150 |
1727 |
244 |
59 |
185 |
|
2012 |
2005 |
1014 |
991 |
1883 |
942 |
941 |
122 |
72 |
50 |
|
2013 |
1708 |
1026 |
682 |
1563 |
921 |
642 |
145 |
105 |
40 |
|
2014 |
2204 |
926 |
1278 |
2104 |
808 |
1296 |
100 |
118 |
-18 |
|
2015 |
1442 |
1107 |
335 |
1334 |
998 |
336 |
108 |
109 |
-1 |
|
2016 |
1510 |
879 |
631 |
1445 |
769 |
676 |
65 |
110 |
-45 |
|
2017 |
1034 |
1262 |
-228 |
988 |
1185 |
-197 |
46 |
77 |
-31 |
|
2018 |
675 |
1234 |
-559 |
650 |
1165 |
-515 |
25 |
69 |
-44 |
|
2019 |
1773 |
981 |
792 |
1718 |
947 |
771 |
55 |
34 |
21 |
Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат. Вологда.
Миграционно привлекательными являются Шекснинский (в среднем прирост составил 28,8‰ в год за период с 2000 по 2019 год), Вологодский (28‰), Усть-Кубинский (26,2‰), Кадуйский (13,7‰), Кирилловский (7,2‰) и Череповецкий (1,6‰) районы (рис. 3).
В 2000–2019 гг. городские округа области были более привлекательными для мигран- тов, лишь начиная с 2015 года они стали терять население. Особенно тревожная ситуация наблюдалась в городе Вологде. Так, с 2015 по 2019 год город в результате миграции потерял 13984 человека (4,4% от населения города в 2015 году). В среднем же миграционный прирост в Вологде за период с 2000 по 2019 год составил 4,2‰, в Череповце – 18,9‰.
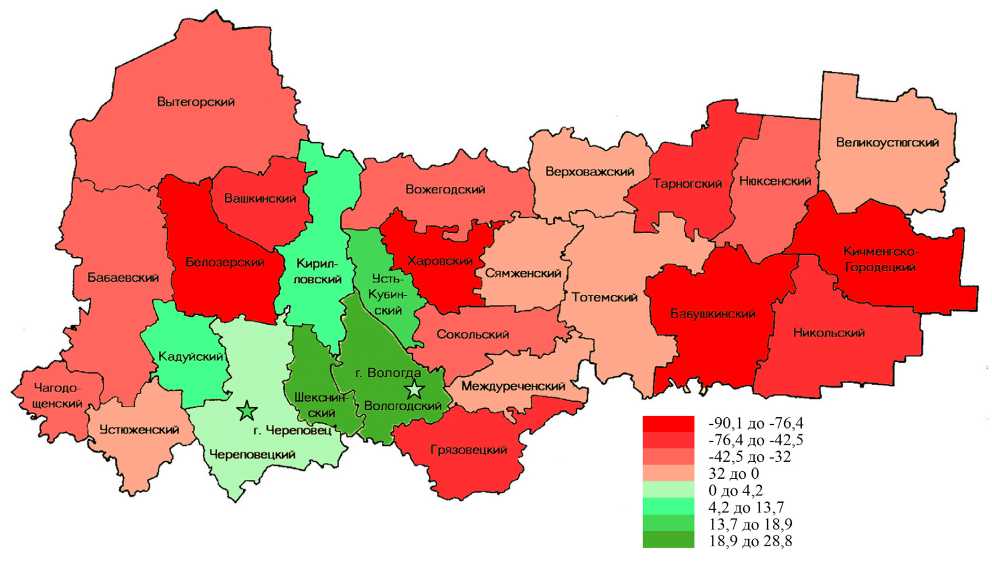
Вытегорский
Нюксенский
Вожегодский
Вашкинский
Кирил-
Тотемский
Бабушкинский
Никольский
Сокольский
Кадуйский г. Вологда
Шексни!
Устюженский г. Череповец*
Грязовецкий
Череповецкий
Чагодо щенский
Кубин-
Верховажский 1
./ Тарногский
\ Белозерский Бабаевский [ В
Харовский С '
-л С Сям женский
^^ И Междуреченский Воло гадский >*х^г-х—. qvH
Великоустюгский
Кичменгско-Городецкий
I -90.1 до-76,4
I -76,4 до-42,5
I -42,5 до-32 32 до 0 0 до 4,2 4,2 до 13,7
I 13,7 до 18,9
I 18,9 до 28,8
Рис. 3. Средний коэффициент миграционного прироста по районам Вологодской области, 2000–2019 гг., на 1000 чел., ‰
Источник: Демографический ежегодник Вологодской области, 2000–2019: стат. сб. / Вологдастат.
Социально-демографические характеристики мигрантов
В целом среди мигрантов за 2000–2019 гг. наиболее мобильными оказались женщины. При этом большинство перемещений как в группе женщин, так и мужчин приходится на возраст от 20 до 39 лет, т. е. регион покидают молодые образованные люди в трудоспособном возрасте.
Портрет современного мигранта-вологжанина на 2019 год таков: средний возраст около 30 лет, в большинстве случаев это женщины со средним профессиональным или высшим образованием трудоспособного возраста (табл. 3).
Заключая, следует подчеркнуть, что Вологодская область в 2000–2019 гг. не являлась миграционно привлекательным регионом для внутренних мигрантов и мигрантов дальнего зарубежья (за исключением нескольких лет), положительное сальдо отмечалось лишь со странами СНГ (за исключением 2017 и 2018 гг.).
В ближайшее время вследствие половозрастных сдвигов, происходящих по причине
Таблица 3. Характеристика мигрантов в 2019 году
Исходя из этого, необходимо обращать более пристальное внимание на миграционную политику, повышать миграционную привлекательность региона. Однако нужно осознавать, что все мероприятия по привлечению мигрантов должны носить продуманный и спланированный характер, так как неконтролируемая миграция скрывает в себе риски нарушения этнодемографиче-ского баланса территории.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования государственными органами субъектов Российской Федерации в процессе совершенствования миграционной политики, в том числе при разработке концепции миграционной политики, нормативно-правовых актов, и проведении организационных изменений в сфере регулирования миграции населения.
Список литературы Оценка миграционной ситуации в Вологодской области
- Будилов А.П. Основные тренды внутренней миграции населения России // Вопросы территориального развития. 2019. № 4 (49). С. 1–10. DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.5
- Rokita-Poskart D. Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region. Economic and Environmental Studies, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 9–20.
- Молодежь современной России – ключевой ресурс модернизации / А.А. Шабунова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 с.
- Леонидова Г.В., Панов А.М., Попов А.В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения // Проблемы развития территории. 2013. № 4. С. 49–57.
- Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 2007. 525 с.
- Aicher-Jakob M., Marti L. Education, dialogue, culture: migration and interculturalism as educational responsibilities. Schneider Verlag Hohengehren, 2017, vol. 4, pp. 97–105.
- Шабунова А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. 2014. № 2. С. 7–17.
- Zlotnic H. Trends of international migration since 1965, what existing data reveal. International Migration, 1999, vol. 37, pp. 21–61.
- Johnson J.H., Salt J. Labour migration within organizations: an introductory study. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 1980, vol. 71, pp. 277–284.
- Лисовицкий В.Н., Реджей А.Х.М. Новые явления и тенденции в развитии миграционных процессов // Научный результат. 2014. № 1. С. 29–33.
- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука, 1987. 199 с.
- Hunt J.C., Kau J.B. Migration and wage growth: A human capital approach. Southern Economic Journal, 1985, vol. 51, pp. 697–710.
- Lee E.S. A theory of migration. Demography, 1966, vol. 1, pp. 47–57.
- Неклюдова Н.П. Социально-экономические факторы внутренней трудовой миграции в России // Экономика и предпринимательство. 2013. № 11 (40). С. 721–724.
- Будилов А.П. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов и ее факторы // Проблемы развития территории. 2019. № 3 (101). С. 97–106. DOI: 10.15838/ptd.2019.3.101.6
- Мкртчян Н.В. Миграция молодежи из малых городов России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 225–242.
- Бадараев Д.Д. Сельско-городская миграция как фактор адаптации к социально-экономическим процессам // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2014. № 14. С. 59–64.
- Волох В.А. Проблемы управления миграционными процессами в современной России // Управление. 2017. № 2. С. 35–43.
- Стешина М.П. Методика оценки межмуниципальных миграционных связей // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. 2010. № 6. С. 76–80.
- Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Оценка влияния внутренней трудовой миграции населения на социально-экономическое развитие региона // Статистика и экономика. 2015. № 6. С. 106–111. DOI: 10.21686/2500-3925-2015-6-106-111
- Панов М.М. Анализ миграционных потоков населения районов Вологодской области // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 4 (40). С. 124–138. DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.8