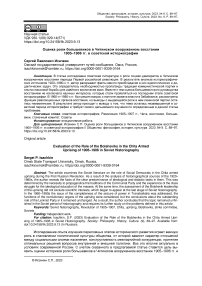Оценка роли большевиков в Читинском вооруженном восстании 1905-1906 гг. в советской историографии
Автор: Исачкин С.П.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследована советская литература о роли социал-демократов в Читинском вооруженном восстания периода Первой российской революции. В результате анализа историографических источников 1920-1980-х гг. автор раскрывает факты явного преобладания в них идеологических и дидактических задач. Это определялось необходимостью пропаганды традиций коммунистической партии и опыта классовой борьбы для идейного воспитания масс. Вместе с тем оценка большевистского руководства восстанием не исключала научных интересов, которые стали проявляться на последнем этапе советской историографии. В 1960-х-1980-х гг. был решен вопрос о полноте захвата власти в Забайкалье, рассмотрены функции революционных органов восстания, но выводы о выдающейся роли в нем ленинской партии остались неизменными. В результате автор приходит к выводу о том, что тема осталась незавершенной в советский период историографии и требует своего дальнейшего изучения по определенным в данной статье проблемам.
Советская историография, революция 1905-1907 гг, чита, восстание, большевики, стачечный комитет, советы
Короткий адрес: https://sciup.org/149144067
IDR: 149144067 | УДК: 930.1(09):329.14(571) | DOI: 10.24158/fik.2023.9.13
Текст научной статьи Оценка роли большевиков в Читинском вооруженном восстании 1905-1906 гг. в советской историографии
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия, ,
обобщить опыт исследования данной темы в советской историографии. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
-
1. Раскрыть содержание, условия и особенности развития темы на каждом этапе ее изучения.
-
2. Определить перспективы исследования темы для современной историографии.
Методология работы основана на сочетании формационного и цивилизационного подходов. Если первый из них наиболее эффективен при изучении классов, партий, общественных движений, то второй – идей, ментальностей, культур. В рамках формационного подхода использовались историко-типологический и проблемно-хронологический методы, позволившие выявить социально-политические структуры Читинского вооруженного восстания в публикациях разных этапов советской историографии. В рамках цивилизационного подхода применялись социальнопсихологический и культурологический методы, с помощью которых исследовались проблема идейно-политической ориентации местного комитета РСДРП и профессиональная культура авторов изучаемой литературы.
Теоретическую базу статьи составили исследования советских специалистов в области историографии революционного, рабочего и социал-демократического движения за Уралом. В трудах Н.В. Блинова1, М.В. Шиловского2, Ю.В. Пронина3, а также Л.М. Горюшкина и Н.А. Миненко (Горюшкин, Миненко, 1984) проанализирована имеющаяся на тот момент литература о Революции 1905–1907 гг. в Сибири, подведены соответствующие итоги и определены дальнейшие направления работы для своих последователей. Однако проблематика вооруженных восстаний в данных исследованиях не носила специального характера и рассматривалась как часть историографии революционного движения в регионе. К тому же их авторы, естественно, могли действовать исключительно в рамках существовавших тогда методологических принципов и идеологических установок. В современной историографии предлагаемая тема практически не рассматривалась. Можно лишь говорить о формировании теоретических основ ее переосмысления, ярким подтверждением чего служат статья В.В. Шелохаева и К.А. Соловьева, опубликованная в издании РАН «Российская история» (Шелохаев, Соловьев, 2019), а также работа В.В. Панасюка и Е.А. Старостина в электронном журнале «Наука без границ» (Панасюк, Старостина, 2021).
Таким образом, в новейшей науке отсутствуют историографические исследования о роли большевиков в Читинском вооруженном восстании 1905–1906 гг. Настоящая статья может служить началом дальнейшего изучения данной проблемы.
В силу целого комплекса объективных причин социального, политического и международного характера в Советской России с самого начала ее существования первостепенное значение придавалось утверждению и распространению государственной идеологии победившего пролетариата. Уже в 1920 г. был принят декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Коммунистической партии», названной впоследствии Истпартом. Далее возникла широкая сеть таких учреждений по всей стране, в том числе за Уралом.
При Истпарте функционировало две секции, дооктябрьского и советского периодов. В первой из них проводился основной объем работы, а тема Революции 1905–1907 гг. была одной из главных. Это не только соответствовало указаниям В.И. Ленина о необходимости изучения Первой революции в России как генеральной репетиции Великого Октября4, но и диктовалось условиями идеологической борьбы. В 1920-х гг. нередко появлялись публикации с небольшевистской трактовкой революции. Они основывались главным образом на крупном труде меньшевистских авторов «Общественное движение в России в начале XX века», изданном еще в межреволюционный период5. После выхода в 1905 г. работы В.И. Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции»6 подобным систематизированным исследованием партия большевиков не располагала. Поэтому, руководствуясь ленинскими заветами противопоставить лживым описаниям меньшевистских фальсификаторов большевистскую историю революции7, советские историки-марксисты придавали большое значение выявлению предпосылок и изучению проблем классовой борьбы периода 1905–1907 гг. Определенным стимулом в развитии данного процесса явились юбилеи Первой российской революции. В одной лишь Сибири к 20 и 25-летиям этого события было опубликовано воспоминаний, документов, исследовательских работ больше, чем в последующие 20 лет (Блинов, 1971: 65). Ряд вопросов революционного движения 1905–1907 гг. в регионе был отражен в хрестоматии по истории Сибири1 и первых двух томах Сибирской советской энциклопедии2. 1905 году посвящался сборник статей и воспоминаний, подготовленный Сибистпартом3, два таких сборника с материалами о Читинском вооруженном восстании было опубликовано при содействии Дальистпарта4,5.
Революционное движение, продолжавшееся с ноября 1905 по январь 1906 гг. в Забайкалье, привело к провозглашению Читинской республики, для подавления которой по распоряжению царского правительства были отправлены специальные военные экспедиции генералов А.Н. Меллер-Закомельского и П.К. Ренненкампфа. Разумеется, столь значительный факт не мог остаться без внимания первых советских историков. Их главной задачей стало выявление роли большевиков в данных событиях.
Практически во всех публикациях признавалось, что в 1905 г. прежней царской администрации Забайкальской области противостояли Читинский комитет РСДРП, Смешанный стачечный комитет и Совет солдатских и казачьих депутатов. Без выяснения функций и полномочий, анализа практических действий этих организаций, лидерство и приоритет в их руководстве авторы отдавали «местной большевистской партии» (Ветошкин, 1926: 168; Кальвари, 1935: 113). Так, по словам В.А. Чаплинского, штабом революции являлось помещение комитета рабочей партии, из которого исходили приказы не только партийные, но и административные, военные6. В свою очередь Смешанному стачечному комитету отводилась второстепенная роль, несмотря на то, что он нередко отождествлялся с Советом рабочих. Еще меньше значения придавалось Совету солдатских и казачьих депутатов, представлявшему в борьбе за власть реальную силу. Вместе с тем некоторые опубликованные документы свидетельствовали о случаях неуверенности, несогласованности членов партийного комитета в процессе развития революции (Папикас, 1923: 156; Неупокоев, 1925: 53). В связи с этим остро встал вопрос о возможности завоевания полной фактической власти Читинским комитетом РСДРП. Н.Н. Баранский утверждал, что «в Чите полный оформленный захват власти был вполне возможен». «Осуществить его было легко, – настаивал он, – потому что все вооруженные силы были в руках комитета» (Баранский, 1926: 96). Однако, по мнению автора, воспользоваться властью и принять на себя все ее функции Читинский комитет не смог бы из-за отсутствия новых административно-хозяйственных учреждений. Другими словами, реальными властными структурами социал-демократы Читы, под которыми подразумевались большевики, все же не располагали.
В свою очередь тогда только начинающий исследователь М.К. Ветошкин рассуждения о невозможности ленинцев воспользоваться имеющейся властью считал «небольшевистскими». Неудачную попытку Читинского комитета в борьбе за власть он объяснял неопытностью и неорганизованностью социал-демократического движения как в центре страны, так и на местах, а также слабостью партийных организаций для решения столь сложных задач (Ветошкин, 1932: 82–84). Таким образом, по его мнению, причины неудачи вооруженного восстания в Забайкалье были такие же, как и в европейской части России.
Завершение дискуссии о степени захвата власти большевистскими силами Читы и масштабах ее распространения давало возможность раскрыть многие проблемные вопросы изучаемой темы. Однако этого не последовало. Историки 1920-х – первой половины 1930-х гг. выполнили главную задачу истпартовской работы – провозгласили партию большевиков ведущей силой революционного процесса в Забайкалье. При этом известный факт деятельности большевиков и меньшевиков в единой социал-демократической организации Читы не считался существенным. В ленинской направленности местного комитета РСДРП никто из авторов не сомневался.
Следующий этап изучения темы продолжился во второй половине 30-х–50-х гг. ХХ в. В это время заметно укрепилась источниковая база исторической науки. Только по теме Первой революции к концу рассматриваемого времени было издано 35 сборников документов, содержащих около 9 000 различных источников, большинство из которых впервые вводилось в научный обо-рот1. В 1950-х гг. началось издание крупного документального труда «Революция 1905–1907 гг. в России»2. Непосредственно по сибирской тематике было публиковано 10 сборников документов и материалов3, в том числе «Революционное движение в Забайкалье»4. Особый интерес представляло издание «Газета “Забайкальский рабочий” в 1905–1906 гг.»5. Многие сборники, кроме источников, содержали хроники революционного движения в Сибири периода Первой российской революции. Значительно увеличился кадровый потенциал историко-партийной науки. Стали формироваться научные школы.
Вместе с тем резко возросли требования партийных органов к идейному содержанию исторических трудов, с чем Истпарт уже не справлялся, что и стало причиной его роспуска. Теперь основные вопросы стратегии и тактики большевиков отражал Краткий курс истории ВКП(б), вышедший в 1938 г.6 Следует отметить, что в данном учебнике точнее и глубже всех предшествующих трудов обосновывалась ленинская концепция Первой революции в России. Но в то же время именно его рамками ограничивались возможности развития историко-партийной проблематики. Дискуссии, научный компромисс стали чрезвычайно редким явлением в советской историографии.
Все это прямым образом отразилось на теме вооруженного восстания в Забайкалье. Так, в монографии Л.В. Богуцкой совершенно безапелляционно утверждалось: «Читинский комитет большевиков в ноябре–декабре 1905 г. стал полным хозяином не только в Чите, но и на всей линии Забайкальской железной дороги»7. В свою очередь А.А. Мильштейн (Мильштейн, 1940: 17), К.Н. Шней-Красиков (Шней-Красиков, 1948: 112), В.П. Гирченко (Гирченко, 1949: 743, 756) без ссылок на какие-либо источники настаивали на функционировании во время восстания Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, который находился под безраздельным влиянием большевиков. При этом авторы не уточняли, откуда ими были взяты сведения о Читинском комитете большевиков и указанном Совете, которых в действительности никогда не существовало.
Для прояснения ситуации требовалось специальное исследование данной проблемы. Оно было осуществлено в книге М.К. Ветошкина «Забайкальские большевики и Читинское вооруженное восстание 1905–1906 гг.», опубликованном в 1949 г. Этот труд, защищенный в качестве докторской диссертации, был, по мнению видного специалиста в области революционного движения В.И. Дулова, одним из лучших произведений своего времени по истории вооруженных восстаний в России8.
На основе документальных источников М.К. Ветошкину удалось доказать, что Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов в Чите в рассматриваемое время не было, а главными революционными организациями города являлись тогда Смешанный стачечный комитет и отдельно от него существовавший Совет солдатских и казачьих депутатов (Ветошкин, 1949: 209, 215–216). Благодаря данному выводу были внесены соответствующие коррективы в ряд исследовательских работ, но это нисколько не отразилось на общем мнении авторов о выдающейся роли в восстании местных большевиков (Дулов, Кудрявцев, 1955: 161, 190; Зобачев, 1955: 152; Ключников, Груш, 1956: 359). Тем более, что оно полностью совпадало с мнением очень авторитетного на тот момент ученого, основателя школы по изучению революционного движения за Уралом Михаила Кузьмича Ветошкина.
Между тем М. К. Ветошкин был не только крупным исследователем, но и непосредственным участником событий 1905–начала 1906 гг. в Забайкальской области. Поэтому он, разумеется, знал, что фракционного размежевания в рядах Читинской организации РСДРП не было, а значит не могло существовать и местного комитета большевиков. Следовательно, говорить о большевистской партии, как отдельной политической силе в Забайкалье, было некорректно. Тем не менее ученый был вынужден подчиниться генеральной линии в создании истории ВКП(б), требующей прославления партии В.И. Ленина во всех сколько-нибудь значимых событиях, тем более, когда речь шла о вооруженных восстаниях.
В соответствии с идеологией правящей партии все действия Читинского комитета, считавшимся в период наивысшего подъема революции большевистским, признавались правильными. Оправдывалось даже его решение о сдаче Читы без сопротивления правительственным войскам в целях сохранения партийной организации для новой классовой борьбы. Лишь в 1956 г. С.А. Уродков выступил с критикой местного социал-демократического комитета за применение оборонительной тактики ведения восстания и отсутствие конкретного плана захвата власти (Уродков, 1956: 33). Однако и это стало возможным только после ХХ съезда КПСС, осудившего перегибы в политике партии.
Данный форум советских коммунистов стал переломным этапом во всех сферах жизнедеятельности страны, включая идеологическую. В определенных пределах был ослаблен партийный контроль за деятельностью исследователей. Допускалось разнообразие мнений в рамках марксистско-ленинской идеологии. Своего рода путеводителем в деле постижения теории и практики Коммунистической партии Советского Союза стало многотомное издание по ее истории. Заметный вклад в развитие проблем Первой российской революции внес его второй том, освещающий деятельность ленинской партии не только в центре России, но и на ее окраинах, в том числе в Сибири1.
В результате существенных перемен в организации источниковедческой работы к началу 1980-х гг. было опубликовано более 700 сборников документов, включающих материал по историко-партийной проблематике2. Не менее 30 из них посвящались вопросам классовой борьбы накануне и в период Первой российской революции как в масштабе всей страны, так и в сибирском регионе3. Однако при таком положении дел публикация источников в самой Сибири существенно сократилась по сравнению с предыдущими этапами историографии. Материалы о событиях 1905–1907 гг. в регионе, об участии в них социал-демократов содержали лишь немногие местные издания4,5,6, хотя общий потенциал источниковой базы здесь в 60–80-е гг. ХХ в. значительно возрос.
На завершающем этапе советской историографии последовательно укреплялся кадровый потенциал истории КПСС. По этой научной специальности только в Сибири в 1960-х–1980-х гг. было защищено 16 докторских и кандидатских диссертаций, освещавших деятельность местных социал-демократов накануне и в период Первой российской революции. По соответствующим проблемам было издано не менее 170 научных статей7, что произошло главным образом в результате расширения проблематики исследований. Вместе с тем данный процесс имел и свои отрицательные последствия, так как произошло дробление проблем и сужение тем конкретных исследований. В результате появление крупных обобщающих трудов по изучаемой теме стало чрезвычайно редким явлением. Достаточно сказать, что за 60-е–80-е гг. ХХ в. было опубликовано всего две монографии, специально посвященные истории сибирских организаций РСДРП периода Первой российской революции, причем промежуток времени между выходами их в свет составил практически четверть века (Терюшков, 1960; Кабацкий, 1984). Правда, это в какой-то мере компенсировалось коллективными обобщающими монографиями последнего десятилетия советской историографии8,9,10.
Несмотря на повышение интереса ученых к проблемам Первой революции в целом, их обращение к истории вооруженных восстаний в Сибири резко ослабло. Достаточно сказать, что указанной теме на рассматриваемом историографическом этапе не было посвящено ни одного специального труда. Между тем в обобщающих исследованиях по революционному движению проблема большевистского руководства восстаниями продолжала оставаться одной их главных. В частности, в первой книге фундаментального труда «Исторический опыт трех российских революций», изданной в 1985 г., высказывалась мысль о захвате местным партийным комитетом полной фактической власти в области. Кроме того, в ней без ссылок на какие-либо источники утверждается, будто в Забайкалье старые органы власти были заменены новыми и объявлены общественной собственностью железная дорога, кабинетские земли, золотые прииски1. Однако в исследованиях сибирских историков середины 1980-х гг. было доказано, что ни полного захвата власти, ни повсеместной экспроприации железнодорожных путей сообщения здесь произведено не было2. В общей массе литературы данный вопрос вообще не становится. Не подлежала специальному анализу и деятельность читинских большевиков после частичной победы восстания. В работах лишь отмечалось, что местный комитет в рассматриваемое время твердо придерживался ленинских позиций. Как и на предыдущем этапе историографии, в последней советской литературе оправдывалось решение Читинского партийного комитета о сдаче города без сопротивления правительственным войскам. Действительно, учитывая политическую и военно-стратегическую обстановку в Чите, с этим мнением можно согласиться. Между тем такая постановка вопроса явно противоречила пропагандистским лозунгам правящей партии о «твердокаменности» и «непоколебимости» представителей «ленинской гвардии».
Важное значение на завершающем этапе советской историографии придавалось деятельности местных социал-демократов в новых политических учреждениях города. По мнению А.В. Пясковского, в Чите не было необходимости создавать общегородской Совет. «Все революционные организации, – утверждал он, – объединял Читинский комитет РСДРП, который совместно с ними и опираясь на них выполнял фактически роль органа восстания» (Пясковский, 1966: 212). В статье Г.А. Терюшкова, посвященной выявлению степени влияния большевиков в Совете солдатских и казачьих депутатов, подчеркивалось, что Читинский комитет сумел выдвинуть понятную и близкую для каждого солдата и казака программу, поэтому их Совет всячески поддерживал социал-демократов в борьбе с самодержавием. Ставя вопрос о значении и функциях революционных органов в Чите, автор констатировал: «Если Смешанный железнодорожный комитет, руководимый большевиками, был зачатком новой революционной власти, то солдатский Совет вместе с Советом рабочих дружин составлял вооруженную опору этой власти» (Терюшков, 1966: 141). Под железнодорожным комитетом автор, разумеется, имел ввиду Смешанный стачечный орган, так как он состоял в основном из представителей подразделений Забайкальской железной дороги – ведущего предприятия области того времени. Немаловажно также отметить, что Совет рабочих дружин, лишь упоминавшийся и в литературе прошлых лет, теперь по своей значимости приравнивался к Совету солдатских и казачьих депутатов. Однако даже после установления такой субординации революционных сил в Чите в некоторых публикациях продолжал фигурировать никогда не существовавший в городе Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов3,4. Это прежде всего свидетельствует о том, что рассматриваемая проблема не получила широкого развития и не была завершена в советской историографии.
Таким образом, с первых лет власти большевистская партия уделяла пристальное внимание вопросам изучения и пропаганды своего прошлого. С этой целью по всей стране была создана широкая сеть истпартов. Главной задачей этих учреждений стало выявление роли большевиков в событиях классовой борьбы. Это в полной мере относилось к Читинскому вооруженному восстанию 1905–1906 гг. Некоторые документальные источники и участники данных событий, которыми нередко являлись сами авторы публикаций, свидетельствовали об активной роли местных социал-демократов в восстании, занимавших на тот момент в основном ленинскую позицию. Этого оказалось достаточно, чтобы объявить Читинский комитет большевистским, а все другие революционные организации города – созданными и руководимыми партией В.И. Ленина.
В результате главная задача истпартовской деятельности была выполнена и дальнейшее развитие темы прекратилось. Следует отметить, что условия начального этапа советской историографии позволяли углубление проблематики исследования, так как допускали плюрализм мнений и научный дискурс. Но в трактовке вопросов, касавшихся роли коммунистической партии в революционном процессе, уже тогда были установлены определенные рамки.
Подобные ограничения еще более ужесточились на следующем историографическом этапе, когда с одной стороны, значительно укрепилась источниковая и кадровая база изучения истории, появились научные школы, а с другой – публикация мнений, противоречивших государственной идеологии, стала невозможной и даже опасной для их авторов. В такой ситуации впервые введенные в научный оборот источники использовались, как правило, при решении частных вопросов, а не для переосмысления роли и влияния большевиков в значимых событиях. В процессе формулирования идеологических выводов документальные факты нередко фальсифицировались или игнорировались. Только этим можно объяснить появление в литературе тех лет никогда не существовавшего в Чите Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов, мифическое присутствие которого значительно возвеличивало значение большевиков, поскольку они, по утверждениям авторов, являлись его организаторами и руководителями. Следует подчеркнуть, что совместного Совета рабочих и военнослужащих в Первую российскую революцию не было ни в Петербурге, ни в Москве, ни в других крупных пролетарских центрах страны. Нечто подобное в виде Объединенного Совета существовало только в Красноярске (Исачкин, 2022). Поэтому историки стремились искусственно уровнять значимость читинских и красноярских большевиков в вооруженных восстаниях. Неслучайно упоминания о Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов Забайкалья продолжали появляться даже в изданиях последнего этапа советской историографии.
После ХХ съезда КПСС 1956 г. был ослаблен контроль государства за деятельностью историков, в рамках марксистско-ленинской идеологии стал допускаться плюрализм мнений, продолжал укрепляться источниковый и кадровый потенциал историко-партийной науки, многократно возросла издательская деятельность. Однако эти положительные сдвиги практически не коснулись проблемы большевистского руководства Читинским вооруженным восстанием 1905– начала 1906 гг., хотя новая литература о Первой российской революции в Сибири стала появляться с 60-х гг. ХХ в. Такое положение дел объясняется практически полной исчерпанностью данной проблемы на предыдущих этапах советской историографии. Впрочем, некоторые попытки ее реанимации все же были. Так, удалось доказать, что полной смены власти в Забайкальской области тогда не было, но данный факт не стимулировал ученых к новым исследованиям. Кроме того, были рассмотрены функции новых революционных органов в ходе развития событий. Однако этот подход осуществлялся крайне поверхностно и не выходил за рамки уже сложившейся концепции партийного руководства вооруженным восстанием в Чите.
Естественно, в условиях господствующей в советской исторической науке методологии появление качественно новых трудов по изучаемой теме было невозможно. Поэтому ее завершение достается в наследство современным исследователям. Во-первых, события 1905 – начала 1906 гг. в Забайкалье следует рассмотреть в более широких социально-классовых и партийнополитических рамках. Активное участие в восстании революционно настроенных рабочих, в особенности железнодорожных, не вызывает сомнения. Неправильно было бы отрицать существенное влияние на них членов местного комитета РСДРП. Между тем отношение к событиям других социальных слоев Читы и населения, проживавшего по линии Забайкальской железной дороги, до сих пор не выявлено. Кроме социал-демократов, в анализируемой литературе нередко упоминается комитет Партии социалистов-революционеров. Учитывая максимализм эсеров в 1905 г., есть смысл в выявлении их роли в рассматриваемых событиях. Как известно, Забайкалье традиционно являлось местом ссылки самых радикальных политиков, к которым прежде всего относились анархисты. Их участие в восстании также ждет своего изучения. Это поможет объективно оценить степень влияния представителей РСДРП на революционно настроенное население Читы и Забайкальской области. Во-вторых, важно досконально разобраться в идейно-политической ориентации Читинской социал-демократической организации, в которой вплоть до февраля 1917 г. не было фракционного размежевания. Поэтому вести речь о существовании местного комитета большевиков некорректно. Можно лишь утверждать его большевистскую направленность во время наивысшего подъема восстания. Оценка Читинской организации РСДРП применительно к периоду отступления революции должна быть более осторожной. В данном случае необходим учет всех известных случаев проявления большевистских, меньшевистских и примиренческих тенденций в конкретных эпизодах партийной работы. Неслучайно в среде социал-демократов распространялись предложения о сдачи города правительственным войскам и подготовки к выборам в Государственную думу.
В-третьих, необходим тщательный анализ функций и предназначения Смешанного стачечного комитета, Совета солдатских и казачьих депутатов и Совета рабочих дружин, представлявших реальную силу в ходе Читинского вооруженного восстания 1905 – начала 1906 гг. Без этого понять роль в нем ленинской партии невозможно. Естественно, решение данных задач предполагает обновление и расширение документальной и методологической базы дальнейших исследований.
Список литературы Оценка роли большевиков в Читинском вооруженном восстании 1905-1906 гг. в советской историографии
- Баранский Н.Н. Социал-демократическое движение в Сибири в эпоху революции 1905 г. // Северная Азия. 1926. № 5-6. С. 75–99.
- Блинов Н.В. Рабочие Сибири в конце XIX – начале XX вв. (к историографии и проблематике вопроса) // Из истории Сибири: cб. статей / отв. ред. Л.И. Боженко. Томск, 1971. 240 c.
- Ветошкин М. Большевики и меньшевики в 1905 году на Дальнем Востоке // Пролетарская революция. 1926. № 4. С. 158–192.
- Ветошкин М. Подготовка вооруженного восстания в 1905 году на Дальнем Востоке // Старый большевик: сб. статей. М., 1932. Вып. 2. С. 53–84.
- Ветошкин М.К. Забайкальские большевики и Читинское вооруженное восстание 1905–1906 гг. Чита, 1949. 346 с.
- Гирченко В.П. Революция 1905–1907 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке // Революция 1905–1907 гг. в национальных районах России: сборник статей. М., 1949. 832 c.
- Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец ХVI–начало ХХ в.). Новосибирск, 1984. 317 с.
- Дулов В.И., Кудрявцев Ф.А. Революционное движение в Восточной Сибири в 1905–1907 гг. 2-е изд. Иркутск, 1955. 192 с.
- Зобачев И.Г. В дни бури и натиска // Сибирские огни. 1955. № 6. 149–155.
- Исачкин С.П. Оценка роли большевиков в Красноярском вооруженном восстании 1905–1906 гг. советскими историками // Общество: философия, история, культура. 2022. № 4. С. 88–93. https://doi.org/10.24158/fik.2022.4.13.
- Кабацкий Н.В. Социал-демократические организации Сибири в борьбе за массы в революции 1905–1907 годов. Иркутск, 1984. 236 с.
- Кальвари М. Читинская республика // Борьба классов (Вопросы истории). 1935. № 12. С. 113–124.
- Ключников А.И., Груш Д.Б. Большевики Сибири и Дальнего Востока в годы Первой русской революции // Большевики во главе Первой русской революции: сб. статей. М., 1956. С. 318–382.
- Мильштейн А. Вооруженное восстание в Сибири в 1905 году // Историк-марксист. 1940. № 8. С. 3–27.
- Неупокоев В. Читинское восстание 1905 г. // 1905 год в Прибайкалье: сб. статей. Верхнеудинск, 1925. 77 с.
- Панасюк В.В., Старостина Е.А. Актуальные вопросы изучения Первой русской революции 1905–1907 гг. в современной российской историографии // Наука без границ. 2021. № 4 (56). С. 12–19.
- Папикас Р. Читинская организация РСДРП в 1905–1906 гг. // Дальистпарт: сб. мат. по истории революционного движения на Дальнем Востоке. Владивосток, 1923. Кн. 1. С. 153–162.
- Пясковский А.В. Революция 1905–1907 гг. в России. М., 1966. 297 с.
- Терюшков Г.А. Большевики – организаторы и руководители Читинского Совета солдатских и казачьих депутатов 1905–1906 гг. // Вопросы истории и методики преподавания истории в школе: сб. научных трудов. Иркутск, 1966. С. 126–155.
- Терюшков Г.А. Большевики во главе профессионального движения Восточной Сибири в период Первой русской революции. Улан-Удэ, 1960. 124 с.
- Уродков С.А. Читинское вооруженное восстание в 1905 году // Из истории революционного движения на Дальнем Востоке в годы Первой русской революции: сб. статей и материалов. Владивосток, 1956. С. 13–42.
- Шелохаев В.В., Соловьев К.А. Кризис империи как историографическая проблема // Российская история. 2019. № 2. С. 142–157. https://doi.org/10.31857/S086956870004496-6.
- Шней-Красиков К. Читинский комитет большевиков в 1905 году // Дальний Восток. 1948. № 1. С. 112–117.