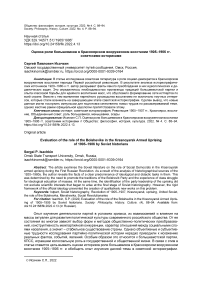Оценка роли большевиков в красноярском вооруженном восстании 1905-1906 гг. советскими историками
Автор: Исачкин Сергей Павлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследована советская литература о роли социал-демократов в Красноярском вооруженном восстания периода Первой российской революции. В результате анализа историографических источников 1920-1980-х гг. автор раскрывает факты явного преобладания в них идеологических и дидактических задач. Это определялось необходимостью пропаганды традиций большевистской партии и опыта классовой борьбы для идейного воспитания масс, что обусловило формирование сети истпартов по всей стране. Вместе с тем выявление партийного руководства восстанием не исключало научных интересов, которые стали возникать на завершающем этапе советской историографии. Сделан вывод, что новые данные могли послужить импульсом для подготовки качественно новых трудов по рассматриваемой теме, однако жесткие рамки официальной идеологии препятствовали этому.
Истпарт, советская историография, революция 1905-1907 гг, красноярск, восстание, объединенный совет, роль большевиков, меньшевики, эсеры
Короткий адрес: https://sciup.org/149140204
IDR: 149140204 | УДК: 329.14(571.51)“1905/1906”
Текст научной статьи Оценка роли большевиков в красноярском вооруженном восстании 1905-1906 гг. советскими историками
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия, ,
,
Опыт изучения деятельности партий в условиях кризиса, их взаимосвязей и влияния на массы актуален для развития политической культуры современного российского общества. От ее состояния во многом зависят выбор форм и методов общественно-политических преобразований, конструктивность межпартийной конкуренции, характер отношений между социальными слоями населения, а значит – стабильное существование страны. Однако объективные и субъективные трудности исследования партийно-политической истории нередко приводили к искажению реальных фактов, событий, явлений. Особым образом это относится к большевистской партии, КПСС, игравшим колоссальную роль в государственной и общественной жизни. В связи с этим в статье ставится цель выявить оценки историков роли большевиков в Красноярском вооруженном восстании 1905–1906 гг. и обобщить опыт изучения данной темы в советской историографии.
Достижению обозначенной цели способствует решение следующих задач: 1) раскрыть содержание, условия и особенности развития темы на каждом этапе ее изучения; 2) определить перспективы исследования темы для современной историографии.
Методология работы основана на сочетании формационного и цивилизационного подходов. Если первый из них наиболее эффективен при изучении классов, партий, общественных движений, то второй – личностей, ментальностей, культур. В рамках формационного подхода использовались историко-типологический, сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы, позволившие выяснить общее состояние организации РСДРП Красноярска в работах историков, выявить оценки ее роли в восстании 1905–1906 гг. на разных этапах историографии и сравнить их между собой. В рамках цивилизационного подхода применялись социально-психологический, антропологический и культурологический методы, с помощью которых исследовались проблема идейно-политической ориентации местных социал-демократов, историография внутри- и межпартийных отношений, профессиональная культура авторов.
Теоретическую базу статьи составили труды советских специалистов в области историографии революционного, рабочего и социал-демократического движения за Уралом. В исследованиях Н.В. Блинова1, М.В. Шиловского2, Ю.В. Пронина3, а также Л.М. Горюшкина и Н.А. Миненко (1984) проанализирован огромный пласт литературы о Революции 1905–1907 гг. в Сибири, подведены соответствующие итоги и определены дальнейшие направления работы последователей. Однако проблематика вооруженных восстаний в данных публикациях не носила специального характера и рассматривалась как часть историографии революционного движения в регионе. К тому же их авторы, естественно, могли действовать исключительно в рамках существовавших тогда методологических принципов и идеологических установок.
В современной историографии предлагаемая тема практически не рассматривалась. Можно лишь говорить о формировании теоретических основ ее переосмысления, ярким подтверждением чего служит статья В.В. Шелохаева и К.А. Соловьева, опубликованная в журнале «Российская история» (2019). Появлению новых представлений по отдельным проблемам темы может способствовать интересная работа М.В. Шиловского «“Красноярская республика”: мифы и реалии» (2011), который успешно продолжает научную деятельность.
Таким образом, в новейшей литературе не существует историографических исследований о роли большевиков в Красноярском вооруженном восстании периода Первой российской революции. Настоящая статья в определенной степени восполняет этот пробел.
Государственная идеология всегда играет существенную роль в жизнедеятельности любой страны. Однако в зависимости от формы власти и ее главных целей этому фактору придается разное значение. Первое в мире социалистическое государство – Советская Россия – имело классовую основу по определению, пролетарскую сущность по происхождению, коммунистический вектор развития по назначению, находилось во враждебном окружении капиталистических держав. В такой ситуации идеология становилась ключевым фактором всей государственной системы. Неслучайно уже в 1920 г. был принят декрет Совета народных комиссаров «Об учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Коммунистической партии», названной вскоре истпартом. В результате возникла широкая сеть таких учреждений по всей стране.
В 1921 г. был учрежден Сибистпарт в Новониколаевске, а через год открылись его губернские отделы в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, на Алтае4. Главная задача истпартовских изданий состояла в пропаганде роли представителей правящей партии в революционном движении. Одним из самых ярких событий политической истории Сибири являлось Красноярское вооруженное восстание октября 1905 – января 1906 г. В ходе его развития образовался Совет рабочих и солдатских депутатов, чего не было на тот момент ни в одном из городов европейской России, включая обе столицы. Для подавления восстания правительство вынуждено было снарядить специальный карательный отряд под командованием генерал-лейтенанта П.К. Реннен-кампфа. Выявление роли большевиков в данном событии представляло сложную задачу, по- скольку до Февральской революции в организациях РСДРП Сибири не существовало фракционного размежевания, а социально-классовая структура общества за Уралом окончательно не сложилась. Тем не менее историки и мемуаристы приступили к выполнению поставленной задачи.
Практически во всех ранних советских публикациях признавалось, что в вооруженном восстании в Красноярске главным противником самодержавной власти в 1905 г. выступал Объединенный совет рабочих и солдатских депутатов. Однако далее, как правило, следовали различные дополнения и уточнения. Так, по утверждению А.А. Мельникова, еще до создания Совета авторитет Красноярского комитета PCДРП был настолько велик, что именно к нему обращались трудящиеся за разрешением всех проблем: «Рабочие как бы не ощущали необходимости создавать в то время свою особую организацию»1. А.А. Ансон также считал прошения по самым разным вопросам, поступавшие в октябрьские дни на имя социал-демократического комитета, ярким доказательством наличия у него фактической власти. Более того, А.А. Ансон утверждал, что на начальной стадии развития восстания «нигде не было такого твердого руководства движением со стороны социал-демократической партии (ее большевистского крыла), как в Красноярске»2. Большое значение авторы придавали роли большевиков в самом Совете, созданном 6 декабря 1905 г. Именно они, как считалось, являлись основателями и инициаторами всех активных шагов этого органа власти3. Между тем, не сомневаясь в твердой ленинской позиции местного комитета РСДРП, многие историки даже не задались вопросом, почему его лидеры поддержали действия Объединенного совета по организации перевыборов в Городскую думу и прекратили углубление восстания. Лишь некоторые авторы обратили внимание на странное поведение красноярских большевиков. В частности, А.А. Ансону, часто обращавшемуся к документальным источникам, удалось заметить: «Казалось временами, что основная задача Совета – захват в свои руки всей власти в городе – отходит куда-то в сторону. Так оно и было. Нет никаких указаний на то, что во всей социал-демократической организации нашелся бы хоть один предостерегающий голос»4. В свою очередь, А.А. Мельников пытался объяснить данную ситуацию преждевременностью захвата власти в Красноярске, которую некому было поддержать за пределами города. Поэтому «в противоположность другим партиям Красноярская организация РСДРП намеревалась в центр внимания поставить не муниципальную программу, не программу партии, а лозунг распространения восстания за пределы Красноярска»5. В добавление к этому С.М. Розентретер отмечал еще и политическую незрелость местных рабочих, участвовавших в восстании6.
Таким образом, в 1920-х – первой половине 1930-х гг. выдающаяся роль большевистской партии в организации и проведении красноярского вооруженного восстания была продекларирована, но не доказана. Открытыми остались и некоторые частные вопросы рассматриваемой темы.
Следующий этап изучения темы продолжился во второй половине 30-х – 50-х гг. ХХ в. В это время заметно укрепилась источниковая база историко-партийной науки, значительно увеличился ее кадровый потенциал. Однако резко возросло влияние идеологических органов ВКП(б) на процесс создания и пропаганды ее истории. Это объяснялось необходимостью претворения в жизнь сталинского лозунга об обострении классовой борьбы в ходе построения социализма.
На данном этапе советской историографии, как и на предшествующем, много внимания уделялось Красноярскому вооруженному восстанию, благодаря которому, по мнению Л.В. Богуцкой, «Красноярск выдвинулся на первое место среди сибирских городов по важности революционной борьбы» (1956: 164). Еще большее значение придавали этому восстанию А.И. Ключников и Д.Б. Груш, считая его «вслед за Московским самым крупным событием Революции 1905– 1907 гг.» (1956: 344–345). Все без исключения авторы рассматриваемого периода подчеркивали решающую роль местной организации РСДРП в развитии классовой борьбы, проходившей в Красноярске в декабре 1905 г. Именно в руках социал-демократов, как отмечалось в учебнике по истории ВКП(б) Е.М. Ярославского, сосредоточивалась в то время вся фактическая власть в го-роде7. По утверждению А.А. Мильштейна, политическое руководство восстанием осуществлял в первую очередь Красноярский комитет партии (1940: 12). Несколько иное мнение на этот счет имела А.М. Панкратова. Она отмечала, что власть и руководство революционным движением в городе принадлежали Объединенному совету рабочих и солдатских депутатов, в котором большевики занимали доминирующее положение (Панкратова, 1951: 186).
Историки второй половины 1930-х – 1950-х гг. предприняли попытку разобраться, почему Красноярский комитет РСДРП в самый ответственный момент прекратил развитие восстания и занялся подготовкой перевыборов в городскую думу. Р.И. Сидельский и В.Т. Грушин согласились с гипотезой А.А. Мельникова о необходимости распространения восстания за пределы Красноярска (1952: 77), выдвинутой еще в 1925 г. Подавляющее большинство авторов объясняло случившееся предательской деятельностью председателя солдатской части Совета прапорщика А.И. Кузьмина, а некоторые, например И.Г. Зобачев, – недостаточной политической сознательностью солдатской части Объединенного совета. Так, в 1955 г. И.Г. Зобачев утверждал: «Большевикам Красноярского совета приходилось преодолевать нерешительность и колебания, проявившиеся в составе солдатских депутатов» (1955: 48). Этим, по его мнению, воспользовались меньшевики и эсеры, добивавшиеся провозглашения демократических выборов в городскую думу. Однако в такой ситуации, как продолжал автор, большевики использовали подготовительную кампанию к выборам для пропаганды и революционной агитации масс.
В свою очередь, Н.Н. Яковлев в статье «Красноярское вооруженное восстание 1905 г.» подверг критике гипотезу А.А. Мельникова как не имеющую логической основы и сделал неожиданное заявление о том, что местный социал-демократический комитет фактически пошел на поводу у эсеров и меньшевиков (1952: 54, 58). Это была довольно смелая для того времени позиция, противоречащая идеологической линии КПСС. Поэтому на научной конференции «50 лет Первой русской революции» в специальном докладе «Руководство большевиков вооруженным восстанием в Красноярске в 1905 г.» Д.Б. Груш дал ответ на идейно неверное заявление: «Красноярский комитет РСДРП не встал на позиции меньшевиков и эсеров. Большевикам не удалось осуществить ряд выдвинутых ими революционных предложений потому, что решения в Объединенном совете принимались не большинством голосов, а только соглашением представителей Совета рабочих и Совета солдатских депутатов» (1958: 113–114). Не добившись такого соглашения, по мнению ученого, большевики Красноярска приняли самостоятельные меры для вооружения рабочих. Единственной ошибкой комитета, с точки зрения Д.Б. Груша, было то, что он не раскрыл до конца перед трудящимися разногласия в Объединенном совете. Однако приводимые автором факты свидетельствуют одновременно и об отсутствии в самом социал-демократическом комитете единой позиции по поводу дальнейшей тактики действий. Видимо, именно поэтому местные большевики так и не смогли в нужный момент вооружить рабочих и обнародовать причины разногласий в Объединенном совете. Все это противоречило выводам о доминирующем влиянии большевиков в период подготовки и проведения Красноярского восстания, а также об их монолитном единстве. Однако сомневаться в заранее известных «истинах» в изданиях тех лет было небезопасно.
На завершающем этапе советской историографии последовательно укреплялась источни-ковая и кадровая база истории КПСС. В определенных пределах был ослаблен партийный контроль за деятельностью исследователей. Допускалось разнообразие мнений в рамках марксистско-ленинской идеологии. Это стало возможным после ХХ съезда партии 1956 г. Однако труды, включавшие новые материалы о революционном движении в Сибири, появились лишь в 60-е гг. ХХ в. В одном из них отмечалось, что вооруженное восстание в Красноярске протекало в несколько иных политических условиях, чем в пролетарских центрах страны. При этом обращалось внимание на заметно большее влияние здесь меньшевиков и эсеров (Пясковский, 1966: 215– 216). Тем не менее авторы признавали важнейшую роль большевиков в красноярских событиях 1905 г., несмотря на допущенные ими ошибки.
Следует подчеркнуть, что в ряде работ 1970–1980-х гг. прозвучал ответ на вопрос о причинах прекращения местным комитетом РСДРП дальнейшего развития восстания в самый кульминационный момент революции. В монографии А.А. Мухина (1972: 214) и соответствующем разделе книги «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период», написанном Н.В. Блиновым и А.Т. Коняевым (1982: 267), указывалось, что большевистское руководство Красноярского комитета опасалось раскола с меньшевиками и эсерами в Объединенном совете, боялось сузить и без того немногочисленную в условиях Сибири оппозицию самодержавному строю. Разумеется, эти опасения были ненапрасными, поскольку солдатская часть Совета находилась под влиянием эсеров. Таким образом, большевики рисковали потерять вооруженную опору. Очевидно, основная причина компромиссов большевиков с меньшевиками и эсерами в Объединенном совете была такой же, что и у существования единых социал-демократических организаций в регионе, в которых вместе работали представители всех фракций и течений российской социал-демократии.
Между тем новые веяния не получили широкого распространения. Выводы Н.В. Блинова и А.Т. Коняева автоматически были перенесены в некоторые работы середины 80-х гг. ХХ в. (Большевистская печать…, 1984; Кабацкий, 1984), а основная масса исследователей осталась на прежних позициях.
Таким образом, в исторической литературе 1960–1980-х гг. наметился новый, более взвешенный, подход в оценке партийно-политических отношений в ходе красноярских событий периода Первой российской революции. Однако дальнейшее развитие темы ограничивалось рамками официальной идеологии и безраздельно господствовавшей марксистско-ленинской методологии. В трудах историков большевики по-прежнему оставались ведущей силой революционного процесса.
Итак, с первых лет власти большевистская партия придавала первостепенное значение вопросам изучения и пропаганды своего прошлого. С этой целью была создана широкая сеть истпартов по всей стране. Первые испартовские издания освещали участие социал-демократов в революционной движении, их работу среди трудящихся масс. При этом оценка данной деятельности напрямую зависела от идейно-политической ориентации той или иной организации РСДРП. В результате выявление роли большевиков в событиях классовой борьбы стало одной из главных задач начального этапа историко-партийной науки. Это в полной мере относилось к Красноярскому вооруженному восстанию 1905–1906 гг., что было изначально ошибочно, поскольку в социал-демократическом движении Сибири вплоть до Февральской революции отсутствовало фракционное размежевание. Тем не менее, считая большевиков Красноярска единственной реальной и активной силой восстания, авторы искусственно сужали круг его участников. Это приводило к непониманию сложных социально-политических процессов, неверной трактовке внутри- и межпартийных отношений, а зачастую и к переоценке влияния местного комитета РСДРП. Следует отметить, что среди авторов 1920-х – первой половины 1930-х гг. были участники революционных событий, которые реально представляли всю сложность партийной работы в Сибири, об этом свидетельствовали и некоторые документальные источники. Однако большинство историков и мемуаристов не утруждались доказательством собственных выводов.
Аналогичная ситуация была характерна и для следующего этапа советской историографии, несмотря на подготовку плеяды профессиональных историков партии, располагавшей необходимой базой источников. В трудах ученых второй половины 1930-х – 1950-х гг. социал-демократический комитет Красноярска, по сути, отождествлялся с большевистским. Практически все его действия во время восстания признавались оправданными. Отдельные резонансные мнения по этому поводу публично опровергались. Факты нерешительных поступков Объединенного совета в работах историков объяснялись предательской деятельностью меньшевиков и эсеров или отдельных лиц.
Перечисленные ошибки и недостатки были прямым следствием господствовавшего на втором этапе советской историографии субъективно-схематического подхода при анализе исторических явлений. В процессе исследования документальные факты зачастую не служили основой доказательств, а искусственно подбирались для подтверждения уже существовавших обобщенных выводов. Поэтому неудивительно, что в публикациях того времени нередкими явлениями были декларативность, подтасовка фактов, свободная интерпретация источников, некритическое к ним отношение.
Критический подход в осмыслении источников по рассматриваемой теме наметился лишь на третьем этапе советской историографии. На стадии его завершения в некоторых трудах заметно расширился круг активных участников Красноярского восстания, к которому относились теперь не только большевики, но и представители других революционных сил. Сотрудничество с ними партии В.И. Ленина стало признаваться проявлением тактики левого блока, актуальной в социально-политических условиях Сибири. Данные выводы могли послужить импульсом для создания качественно новых трудов в ходе развития темы. Однако для этого требовалось существенное расширение методологии исследований, что в рамках государственной идеологии СССР было невозможно.
Вместе с тем советской историографией накоплен значительный опыт в изучении темы, который последовательно передавался и преумножался на каждом ее этапе. Неуклонно расширялся круг используемых источников, возрастал профессионализм авторов. Несмотря на недостатки, вызванные как объективными, так и субъективными причинами, следует отметить наметившийся прогресс советских историков в процессе исследования рассматриваемой темы. Между тем после распада СССР ее развитие полностью прекратилось.
Учитывая масштаб и значимость революционных событий 1905–1906 гг. в Красноярске, их изучение следует возобновить на новой методологической основе. Это позволит разобраться в идейно-политической ориентации местных социал-демократов, в рядах которых не было фракционного размежевания. Для решения данной задачи необходимо учесть все известные случаи проявления большевистских, меньшевистских и примиренческих тенденций в конкретных эпизодах партийной работы. Это, в свою очередь, поможет раскрыть тактическую линию Красноярского комитета РСДРП по отношению к вооруженному восстанию и окончательно ответить на вопрос о причинах его свертывания. При таком подходе следует учитывать меньшевистскую принадлежность председателя рабочей части Объединенного совета А.А. Мельникова. Требуется выяснить, каким образом это отражалось на деятельности социал-демократического комитета и Совета в целом. Не выяснены идейные позиции председателя солдатской части данного органа прапорщика А.И. Кузьмина. В исследуемой литературе в одних случаях он значится эсером, в других – беспартийным. Непонятно также, почему именно эсеры вынудили социал-демократов заняться выборами в городскую думу вместо продолжения восстания. Как известно, партия социалистов-революционеров придерживалась в 1905 г. радикальных мер. Особое внимание следует уделить подробному изучению тактики левого блока в ходе развития восстания, выявлению ее форм и методов. Не определено участие боевых отрядов и дружин в рассматриваемом событии, несмотря на имеющиеся сведения об их распространении по территории Сибири. Все эти направления дальнейших исследований предполагают обновление и расширение источниковой базы.
Список литературы Оценка роли большевиков в красноярском вооруженном восстании 1905-1906 гг. советскими историками
- Богуцкая Л.В. Очерки по истории вооруженных восстаний в Революции 1905-1907 гг. / под ред. акад. А.М. Панкратовой. М., 1956. 215 с.
- Большевистская печать и ее роль в политическом просвещении и организации пролетариата в Сибири (18951917 гг.) / ред. В.М. Самосудов. Томск, 1984. 265 с.
- Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец XVI - начало XX в.). Новосибирск, 1984. 317 с.
- Груш Д.Б. Руководство большевиков вооруженным восстанием в Красноярске в 1905 г. // 50 лет Первой русской революции : докл. науч. конф., посвящ. Революции 1905-1907 гг. / отв. ред. проф. А.П. Бунтин. Томск, 1958. С. 107-120.
- Зобачев И.Г. Сибирь в Первую русскую революцию 1905-1907 гг. Новосибирск, 1955. 93 с.
- Кабацкий Н.И. Социал-демократические организации Сибири в борьбе за массы в революции 1905-1907 гг. Иркутск, 1984. 236 с.
- Ключников А.И., Груш Д.Б. Большевики Сибири и Дальнего Востока в годы Первой русской революции // Большевики во главе Первой русской революции / под ред. проф. Ф.Д. Кретова. М., 1956. С. 318-382.
- Мильштейн А. Вооруженное восстание в Сибири в 1905 г. // Историк-марксист. 1940. № 8 (84). С. 3-27.
- Мухин А.А. Рабочие Сибири в эпоху капитализма (1861-1917 гг.). М., 1972. 336 с.
- Панкратова А.М. Первая русская революция 1905-1907 гг. : 2-е изд. М., 1951. 241 с.
- Пясковский А.В. Революция 1905-1907 гг. в России. М., 1966. 297 с.
- Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / отв. ред. Н.В. Блинов. Новосибирск, 1982. 459 с.
- Сидельский Р.И., Грушин В.Т. Военная и боевая работа большевиков в период Первой русской революции. М., 1952. 170 с.
- Шелохаев В.В., Соловьев К.А. Кризис империи как историографическая проблема // Российская история. 2019. № 2. С. 142-157. https://doi.org/10.31857/S086956870004496-6.
- Шиловский М.В. «Красноярская республика»: мифы и реалии // Волны перемен и альтернативы развития : тр. меж-дунар. науч. конф. Новосибирск, 2011. С. 85-96.
- Яковлев H.H. Красноярское вооруженное восстание 1905 г. // Исторические записки. 1952. № 40. С. 29-72.