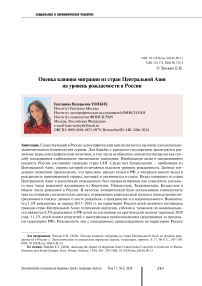Оценка влияния миграции из стран Центральной Азии на уровень рождаемости в России
Автор: Тонких Е.В.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное и экономическое развитие
Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Существующий в России демографический кризис является вызовом для социальноэкономического благополучия страны. Для борьбы с кризисом государством реализуются различные меры демографической политики, в том числе особая роль отводится миграции как способу поддержания стабильности численности населения. Наибольшую долю в миграционном приросте России составляют граждане стран СНГ. Среди них большинство - прибывшие из Центральной Азии, страны которой отличаются высоким уровнем рождаемости. Данные тенденции позволяют предполагать, что приезжие заводят семьи в РФ, а миграция вносит вклад в рождаемость принимающей страны, который и оценивается в статье. Вклад миграции из стран Центральной Азии в российскую рождаемость был проанализирован как показатель удельного веса числа рождений женщинами из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана в общем числе рождений в России. В качестве эмпирической базы использована совокупность трех источников статистических данных, отражающих комплексный подход к определению миграционного статуса: данные о месте рождения, о гражданстве и о национальности. Выявлено, что 1,5% рожденных за период 2011-2023 гг. на территории России детей являются потомками граждан стран Центральной Азии; потомками киргизов, узбеков и таджиков по национальности являются 0,5% рожденных в РФ детей по состоянию на критический момент переписи 2020 года; 11,1% детей имеют родителей с иностранным происхождением (родившихся за пределами территории РФ). Рождаемость лиц с иностранным происхождением на территории России также дифференцирована по федеральным округам. Последующие исследования в рамках данной проблематики могут быть направлены на изучение динамики рождаемости в смешанных семьях, а также конкретизированы статистикой по субъектам РФ.
Гражданство, национальность, иностранное происхождение, рождаемость мигрантов
Короткий адрес: https://sciup.org/147247185
IDR: 147247185 | УДК: 314.172 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.13
Текст научной статьи Оценка влияния миграции из стран Центральной Азии на уровень рождаемости в России
Как минимум несколько десятилетий демографическая ситуация в России определяется как кризисная1, что в первую очередь выражается в снижении уровня рождаемости2. С 1967 года рождаемость в стране находится на уровне ниже необходимого для простого воспроизводства населения, а с 1992 года наблюдается естественная убыль населения. В рамках этого периода естественный прирост фиксировался только в 2013–2015 гг. (число родившихся превысило число умерших на 24; 30,3 и 32 тысячи человек соответственно). При этом показатели рождаемости снижались значительными темпами: в 2015 году на 1000 человек населения приходилось 13,3 родившихся, а в 2022 году – 8,9 родившихся3.
Данную тенденцию отражает и динамика суммарного коэффициента рождаемости (СКР). В постсоветский период этот показатель достиг своего минимального значения 1,195 детей на 1 женщину в 2000 году, максимального 1,777 – в 2015 году, что все равно на 15% ниже необходимого для простого воспроизводства населения (2,1). С 2016 года снова началось постепенное снижение значения СКР; в 2022 году он составил 1,406. С 2012 года СКР снизился во всех российских регионах, за исключением г. Москвы, где показатель вырос с 1,32 до 1,4 ребенка на одну женщину.
В 2022 году СКР превысил показатель, необходимый для простого воспроизводства населения, только в двух регионах: Чеченской Республике (2,63) и Республике Алтай (2,42)4.
Демографический кризис является вызовом и для российской экономики. Поскольку для экономического роста необходимы повышение производительности труда и рост численности рабочей силы, снижение доли трудоспособных жителей России на 4,6% в 2010–2023 гг. может вести к увеличению нагрузки на них, а также стать причиной снижения ВВП5. При увеличении доли трудоспособного населения на 1% темп прироста реального ВВП на душу населения, наоборот, увеличивается на 0,27% (Каzbekova, 2018).
Следовательно, решающую роль в экономическом росте и благополучии государства играет население, на качественные и количественные характеристики которого государство стремится воздействовать. Так, в ситуации демографического кризиса одним из способов воздействия являются финансовые меры демографической политики. К ним относятся материнский капитал, ежемесячные и единовременные пособия6, а также региональные льготы и субсидии (например, возможность бесплатного пользования городской парковкой в Санкт-
Петербурге7 или компенсация оплаты совместного отдыха родителей и детей для многодетных семей в Ульяновской области8 и пр.).
Поскольку динамика общей численности населения зависит не только от естественного, но и от миграционного прироста, в первую очередь из-за пределов России, государство также стремится влиять на него, что находит отражение в нормативно-правовых актах. Например, согласно Указу Президента РФ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на период 2019–2025 гг.» одной из целей миграционной политики является «создание миграционной ситуации, которая способствует решению задач в сфере демографического развития страны… Миграционная политика является вспомогательным средством для решения демографических и связанных с ними экономических проблем»9. В условиях положительной миграционной динамики актуальными остаются вопросы межэтнического согласия, находящие отражение в Стратегии государственной национальной политики РФ, задачами которой являются гармонизация межэтнических отношений, предупреждение конфликтов на межнациональной почве, обеспечение межнационального мира10. При регрессивной половозрастной структуре российского населения появляется угроза демографической экспансии, связанная с возможной трансформацией этнической структуры населения и низким уровнем ассимиляции мигрантов (Золотарева, 2020). Одной из статистических характеристик демографической экспансии выступает соотношение уровней рождаемости коренного и некоренного населения (Балацкий, Екимова, 2023).
Миграция оказывает влияние на численный и половозрастной состав населения. Хотя численный состав мигрантов разнится в разных странах, существуют определенные закономерности в возрастах мигрантов. Наиболее мигра-ционно активна молодежь до 25 лет, которая переезжает с целью обучения, начала трудовой деятельности и создания семьи (Rogers, Castro, 1981). Таким образом, миграция «омолаживает» структуру населения принимающей страны, что является вопросом национальной безопасности современной России ввиду старения населения (Имидеева и др., 2023).
Миграционная ситуация в постсоветской России, в свою очередь, характеризуется разными темпами, масштабами и векторами перемещения мигрантов. Миграционный прирост из зарубежных стран наблюдается в РФ с 1992 года. Максимальное значение абсолютного миграционного прироста отмечено в 1994 году, когда он составил 978 тыс. человек; минимальное – в 2022 году, 34,9 тыс. человек. С 2009 до 2019 года общий прирост населения РФ оставался положительным, поскольку миграционный прирост компенсировал естественную убыль, а с 2020 года – общий прирост сменился общей убылью11.
В 1990-х гг. наибольшую долю в миграционном приросте РФ составляли мигранты из республик бывшего СССР, треть из них получили статус вынужденных переселенцев (Пешкова, 2022). С конца 1990-х – начала 2000-х гг. миграция в РФ приобрела характер трудовой, которая сопровождалась процедурами натурализации. В 1997–2022 гг. прибывшие из стран СНГ составляли в среднем 90,08% от всех прибывших на территорию РФ, а миграционный прирост с ними – в среднем 57,05% от всего миграционного прироста РФ. Среди прибывших из стран СНГ в среднем за вышеуказанный период наибольшие доли составляли граждане Украины (15,95%), Казахстана (13,33%), Узбекистана (9,55%), Таджикистана (7,65%), Армении (5,83%), Киргизии (5,01%), Азербайджана (3,69%), Молдовы (3,35%), Беларуси (2,25%) и Туркмении (1,32%). При этом доли мигран- тов из разных стран менялись с течением времени: если в 1997 году наибольшее число мигрантов прибыло из Казахстана (43,10%) и Украины (25,25%), то в 2022 году – из Таджикистана (34,08%), Украины (27,19%), Казахстана (11,76%) и Кыргызстана (11,39%).
Доля приезжающих из стран Центральной Азии в общей численности мигрантов из стран СНГ в 1997–2022 гг. выросла: на 709,27% для Таджикистана, на 353,46% для Кыргызстана, на 36,38% для Узбекистана12. При этом государства Центральной Азии являются странами с высокой рождаемостью (СКР в 2022 году составлял 3,3 ребенка на 1 женщину в Узбекистане; 2,8 – в Кыргызстане; 3,5 – в Таджикистане; 3,05 – в Казахстане)13.
Таким образом, миграционные процессы оказывают влияние на общий прирост населения РФ. Тем не менее, помимо механического замещения естественной убыли населения миграционным приростом внешняя миграция на определенном этапе также может вносить вклад в рождаемость принимающей страны (Топилин, 2018). Ранее делались попытки оценить вклад миграционной компоненты в демографическую динамику, например, коэффициент социального замещения (1951 г.), коэффициенты воспроизводства населения в разном возрасте (1991 г.), а также коэффициент воспроизводства при различных сценариях чистой миграции (1997 г.), однако данные показатели не учитывали миграцию как константу или предлагали гипотетические сценарии (Poveda, Ortega, 2010).
С учетом названных факторов, а также тенденций феминизации миграции, роста числа детей у прибывающих женщин, предположения о том, что приезжие заводят семьи в РФ, возникает вопрос: какой вклад вносят данные мигранты в российскую рождаемость? Под вкладом в работе понимаются масштабы рождаемости мигрантов, их доля в общем числе рождений в России. Для ответа на этот вопрос будут рассмотрены тенденции рождаемости ми- грантов из стран Центральной Азии (Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана)14 в РФ ввиду их многочисленности, а также принадлежности к странам с высокой рождаемостью (СКР в данных странах превышает российский более чем в два раза).
Теоретико-методологическая часть работы
Отечественные социальные исследования по теме влияния внешней миграции, в том числе из стран Центральной Азии, на уровень рождаемости в РФ немногочисленны. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, активная международная миграция в РФ насчитывает лишь около 20 лет. Во-вторых, масштабные и сравнительные исследования ограничены особенностями методологического учета миграции. Дело в том, что статистические данные о миграции формируются, как минимум, из шести источников информации: Росстата о прибытии и выбытии международных мигрантов; Федеральной миграционной службы (ФМС) о присутствии иностранных граждан на территории РФ, о натурализации иностранных граждан и о легально работающих в РФ иностранных гражданах (до 2016 г.); Главного управления по вопросам миграции МВД, которому были переданы полномочия ФМС после ее упразднения; Пограничной службы ФСБ России; а также Центрального банка РФ о личных денежных переводах между жителями РФ и других стран. Ведомственный подход осложняет процедуру сбора данных, что провоцирует значительные различия в них. Более того, правила учета мигрантов существенно менялись. Например, в 2000 году для мигрантов из стран СНГ стало необходимо получать вид на жительство перед регистрацией по месту проживания, что привело к недоучету прибытия мигрантов. С 2007 года, наоборот, в качестве мигрантов стали учитывать и тех, кто имел разрешение на временное проживание; с 2011 года – и тех, кто зарегистрировался по месту пребывания на срок от 9 месяцев. Гражданам РФ необязательно сниматься с учета при выезде за рубеж; а с 2012 года в чис- ле выбывающих стали учитываться временные трудовые мигранты, у которых закончился контракт, что также привело к несколько завышенным числам эмигрантов (Лифшиц, 2016).
Внешняя миграция не только воздействует на численность населения принимающей страны «извне», но и вносит свой вклад в изменение уровня рождаемости принимающей страны (то есть трансформирует демографическую ситуацию «изнутри»). Например, на территории Швейцарии иностранцами рождаются 23% детей, на территории Великобритании – более 15% (Карачурина, 2007).
В отечественных социальных исследованиях представлены разные способы оценки вклада миграции в рождаемость принимающей страны.
Одним из способов является оценка корреляции динамики показателей рождаемости, чаще всего СКР и миграционного прироста. Данного подхода придерживается А.В. Топилин, который оценивает вклад миграции в уровень рождаемости на основе анализа миграционного прироста из стран с различным уровнем рождаемости: высоким (в данную группу входят страны Центральной Азии), средним и низким (Топилин, 2018). Разделив регионы РФ на четыре группы по уровню миграционного прироста за шесть лет, он приходит к выводу, что лишь в группе с наиболее миграционно-привлекательными регионами СКР демонстрирует положительную динамику. В других группах регионов корреляции между миграционным приростом и СКР не наблюдается или она отрицательная. Таким образом, возрастная структура миграционного прироста населения (мигрируют, как правило, люди в трудоспособном возрасте) способна оказать пролонгированное влияние на динамику рождаемости в будущем, но за рассмотренный А.В. Топилиным период (2010–2016 гг.) положительная динамика СКР наблюдается лишь в 19 регионах, и только в семи из них СКР увеличился значительнее, чем в среднем по РФ.
Однако применение СКР для оценки рождаемости (в том числе мигрантов) в динамике имеет ряд сложностей: показатель адекватно отражает рождаемость только реальных поколений (родившихся в один временной период) женщин, поскольку в динамике он не учитывает изменение календаря деторождений, т. е. их откладывание на последующее время; следовательно, его рост не всегда обозначает слом тенденций, а также вклад миграции в рождаемость (Волан и др., 2020). Более того, СКР не учитывает распределение женщин по числу рожденных детей, а также зависит от возрастов рождений. Помимо упомянутых выше недостатков статистики миграции в России существует также фактор времени: миграция в страну в определенный год не гарантирует рождение ребенка в тот же год, но и не отменяет вероятность его рождения в последующем.
Корреляционного подхода к оценке вклада миграции в рождаемость также придерживается А.Ю. Денисов, который ранжировал по показателю специального коэффициента рождаемости 876 европейских городов, оценил удельный вес мигрантов не из стран Европейского союза в них и пришел к выводу, что, несмотря на высокие показатели рождаемости в некоторых странах ЕС (например, Франции, Великобритании), вклад мигрантов из неевропейских стран в нее незначителен (Денисов, 2017).
Однако недостатком специального коэффициента рождаемости является его зависимость от числа женщин; а существующая статистика внешней миграции в России не позволяет выделить удельный вес находящихся в стране мигрантов по стране происхождения, поэтому нами в данной статье не будет использоваться корреляционный метод оценки вклада миграции в рождаемость.
Различия в коэффициентах рождаемости мигрантов по сравнению с коренным населением также обусловлены низкими показателями до переезда в связи с планированием миграции и откладыванием деторождения (Carlsson, 2023) и повышением сразу после переезда ввиду брачной миграции и прибытия в детородном возрасте (Alderotti et al., 2022).
Вторым способом оценки вклада миграции в рождаемость принимающей страны является анализ числа рождений по гражданской принадлежности родителей.
Например, Ю.А. Прохорова, проанализировав данные Управления статистики населения и здравоохранения о числе родившихся по гражданству матери и отца в 2011, 2012, 2013 гг., отмечает, что, несмотря на низкий вклад семей мигрантов в российскую рождаемость (около 2%) в 2011–2013 гг., средние темпы роста рождаемости в смешанных типах городских семей (где хотя бы один родитель имеет гражданство другой страны) составляют 15%, сельских – 20%, что значительно превышает темпы роста рождаемости в семьях граждан РФ (1 и 0,5% соответственно). У мононациональных семей наивысшие темпы роста рождаемости – 24 и 45% соответственно (Прохорова, 2015). Цель автора заключалась в рассмотрении различий рождаемости в смешанных и мононациональных семьях в РФ, что не является целью нашего исследования. Однако данные о числе рождений по гражданству родителей являются подходящими, поэтому будут использованы нами в качестве методической базы.
Е.П. Сигарева и С.Ю. Сивоплясова использовали метод сравнительного анализа данных о числе рождений по гражданской принадлежности родителей. В 2020 году гражданство родителей точно определено у 87,2% рожденных детей (у оставшихся оно либо не указано, либо отсутствует вовсе). Среди них 95,4% рождений приходятся на родителей-россиян, 1,5% – на родителей-иностранцев, 3,1% – на рождаемость в смешанных парах с иностранными гражданами. Доля родителей-россиян преобладает во всех федеральных округах, варьируется от 92,8% в Северо-Западном федеральном округе до 98,5% – в Северо-Кавказском. При этом практически 2/5 от всех рожденных в России детей, родители которых являются иностранными гражданами, родилось в Центральном федеральном округе: 39,2% от всех детей с обоими родителями-иностранцами и 36,2% с одним родителем-иностранцем. Это связано с экономической и миграционной привлекательностью ЦФО, относительно недорогими условиями жизни и, следовательно, со значительной долей мигрантов на территории округа. В целом в смешанных парах 45,8% матерей и 54,2% отцов с иностранным гражданством (Сигарева, Сиво-плясова, 2022).
Таким образом, основной вклад в процессы рождаемости, а также брачности в России вносят граждане РФ. Доля браков, где хотя бы один из супругов является иностранцем, составляет 7,5% от общего числа заключенных брачных союзов, а доля рождений, где хотя бы один из ро- дителей является иностранцем, составляет 5% от общего числа рождений. Более того, возможное влияние миграции на процессы рождаемости в России значительно дифференцировано по федеральным округам.
В рамках исследования будет проведен сравнительный анализ данных о числе рождений по происхождению родителей, поскольку он является наиболее статистически релевантным для оценки вклада миграции в рождаемость принимающей страны.
Помимо оценки статистического вклада миграции в рождаемость принимающей страны необходимо изучить социальную и поведенческую компоненты рождаемости, а именно репродуктивные установки и поведение15. Данный аспект является важным в рамках исследования, поскольку подчеркивает различия между репродуктивным поведением принимающей страны – РФ и стран Центральной Азии – доноров миграции.
В социологии семьи репродуктивное поведение понимается как «система действий и отношений, опосредующих рождение определенного числа детей в семье (а также вне брака)»16. Можно выделить виды или компоненты репродуктивного поведения: «собственно репродуктивное, направленное на деторождение, а также абортивное и контрацептивное, задачей которых является регулирование сроков и числа рождений (или их отсутствие)»17. Репродуктивное поведение человека основано на двух компонентах: репродуктивных установках и установках детности18.
По своей структуре репродуктивное поведение схоже с любым человеческим поведением и содержит ценности, мотивы, установки и решения, приводящие к конкретным результатам и действиям. Внешняя миграция является одним из факторов, влияющих на репродуктивные установки и поведение мигрантов, которые, в свою очередь, вносят вклад в рождаемость при- нимающей страны. Обобщив современные подходы, К.И. Казенин выделил четыре типа репродуктивного поведения мигрантов (Казенин, 2017). Первый тип – адаптация, когда после укоренения мигрант усваивает репродуктивное и брачное поведение, характерные для жителей новой страны, а его репродуктивная активность снижается, если он переехал в страну с более низкой рождаемостью, чем на исторической родине. Среди факторов, влияющих на скорость усвоения репродуктивного поведения принимающего общества, выделяются возраст мигрантов, уровень образования, социальноэкономический статус (Afulani, Asunka, 2015), длительность пребывания в стране (Milewski, 2010), поколение миграции (Adsera et al., 2012). Репродуктивное поведение переехавших в детском возрасте ближе к репродуктивному поведению принимающего общества по сравнению с теми, кто мигрировал в более зрелом возрасте.
В логике второго типа, или социализации, мигранты сохраняют репродуктивное поведение, характерное для граждан их родины, в новой стране даже при длительном проживании, поскольку, несмотря на то что со временем у мигрантов происходит постепенный переход к репродуктивному поведению, характерному для общества новой страны, признается важность культурных, религиозных, этнических и семейных контекстов в формировании репродуктивного поведения (Jennings et al., 2012).
Третий тип – разрыв, когда в первый после-миграционный период происходят значительные изменения в репродуктивном поведении мигрантов. Влияние миграции на рождаемость может быть как снижающим, так и повышающим. Экономические трудности заставляют некоторых мигрантов откладывать рождение детей, что приводит к снижению рождаемости (Goldstein, Tirasawat, 1977). Есть свидетельства и всплеска рождаемости среди мигрантов в первые годы после переезда (Andersson, 2004; Milewski, 2011). Это объясняется, во-первых, желанием мигрантов укрепить свой статус в новой стране, во-вторых, тем, что для части мигрантов переезд связан с заключением брака, и наконец тем, что в развитых странах пособия на детей позволяют удовлетворять материальные потребности всей семьи.
Миграция людей с определёнными характеристиками, такими как высокое социальноэкономическое положение и уровень образования, наиболее вероятна. Это сопряжено с относительно небольшим числом детей в семье. То есть потенциальные мигранты уже до переезда отличаются снижением репродуктивных намерений и большей ориентацией на карьеру, что формирует селективное репродуктивное поведение (Hendershot, 1971).
А.Б. Синельников по результатам анализа данных, полученных в рамках 30-го раунда социологического исследования РМЭЗ НИУ ВШЭ, отмечает, что среднее число детей на одну женщину и на одного мужчину у приезжих (как в ранних, так и в поздних возрастах) выше, чем у коренного населения, а доля бездетных среди местных выше, чем среди приезжих, за исключением женщин старше 60 лет, у которых рождаемость не зависит от миграционной истории (Синельников, 2023).
Однако социологический подход не позволяет рассмотреть масштабы рождаемости мигрантов, хотя дает необходимый базис для изучения репродуктивных установок. Поскольку целью нашей работы является оценка вклада миграции в рождаемость в России, данные социологических исследований не будут использованы.
Таким образом, подходы к оценке вклада миграции в рождаемость принимающей страны варьируются в зависимости от целей исследования. В рамках социологического подхода основу составляет анализ репродуктивных установок мигрантов на протяжении всех стадий миграционного процесса; демографический подход предполагает изучение динамики демографических показателей (СКР, специального коэффициента рождаемости, удельного веса и рядов динамики абсолютного числа рождений у иностранцев). Для оценки вклада мигрантов в рождаемость принимающей страны анализ динамики числа рождений по гражданской принадлежности родителей является наиболее полным ввиду широкой представленности эмпирического объекта в базе данных.
Различия в репродуктивном поведении мигрантов и местных жителей привлекают исследователей ввиду социально-экономических различий стран-доноров и стран-реципиентов миграции. Второй демографический переход в европейских странах происходил одновременно с развитием экономики (в том числе сектора услуг) и уровня образования населения, урбанизацией, индустриализацией, что спровоцировало массовый выход женщин на рынок труда, а также с развитием социальной сферы и медицины, что повлекло снижение детской смертности. Страны Центральной Азии считаются еще не завершившими второй демографический переход, то есть странами с уровнем рождаемости выше необходимого для простого воспроизводства населения и слабо развитой экономикой (это является мотивом для переезда в РФ). Так, стоит вопрос о сохранении репродуктивного поведения их граждан в миграции, что может являться «демографическим дивидендом» для принимающей страны и экономическим – для страны отправления.
При острой актуальности данной проблемы комплексные сравнительные исследования влияния миграции из стран Центральной Азии на рождаемость принимающей страны (РФ) в долгосрочной ретроспективной динамике отсутствуют.
Методы исследования
Ввиду отсутствия информации об абсолютной численности мигрантов из стран Центральной Азии (а также их детей), находящихся на территории России, актуальным остается вопрос определения миграционного статуса индивида. Авторский способ оценки вклада миграции из стран Центральной Азии в рождаемость в России состоит в обобщении трех видов статистических данных, отражающих комплексный подход к определению миграционного статуса: данные о месте рождения (релевантные для анализа рождаемости у мигрантов, уже получивших гражданство РФ), о гражданстве (релевантные для мигрантов, не прошедших процедуру натурализации) и национальности (полученные по принципу самоопределения в рамках переписи населения и не зависящие от гражданства), которые могут приводить к различным результатам ввиду методологических особенностей их получения.
Основу эмпирической части работы составляют два источника статистических данных. Во-первых, это результаты Всероссийской переписи населения (ВПН) в 2002, 2010 и 2020 гг.
(принята во внимание критика ВПН-2020 со стороны экспертов и общественности19), которые содержат данные о числе рожденных детей у женщин наиболее многочисленных национальностей в динамике (2002–2020 гг.). С одной стороны, существует ограничение – в базе данных состоят и граждане РФ, указавшие иную национальную принадлежность по принципу самоопределения; в то же время они могли получить гражданство РФ накануне, что не противоречит их статусу мигранта. Согласно рассмотренному ранее социализационному типу репродуктивного поведения, мигранты могут сохранять репродуктивное поведение страны происхождения после переезда. С другой стороны, к положительным сторонам этого источника информации следует отнести доступность данных; возможность получения информации о мигрантах второго и последующего поколений, а также подтверждение наличия у мигранта культурных конструктивных связей со страной происхождения (по принципу национального самоопределения).
Во-вторых, это информация Управления статистики населения и здравоохранения (получаемая от органов ЗАГС), дающая полную информацию о численности рожденных детей по гражданству матери и отца, что позволяет построить ряды динамики числа рождений по гражданской принадлежности родителей, а также проанализировать темпы прироста числа рождений у граждан различных стран за период с 2011 по 2023 год. Ограничениями названного метода являются невозможность получения информации о числе рождений одной женщиной, а также значительная доля лиц, родивших детей и не указавших гражданство (0,9% ежегодно в среднем за вышеуказанный период). С другой стороны, статистические данные являются фактическим отражением рождаемости мигрантов, что позволяет сравнить рождаемость по гражданской принадлежности с результатами ВПН относительно рождаемости по национальной принадлежности, указанной по принципу самоопределения. Также Управление статистики населения и здравоохране- ния собирает данные о числе детей по месту рождения родителей. Ограничением является отсутствие информации о конкретных странах происхождения родителей (имеется информация только об их рождении на территории РФ либо за пределами РФ). Тем не менее эта база дает возможность дифференцировать лиц иностранного происхождения, родивших детей на территории РФ, по федеральным округам, а также сравнить статистику рождений по иностранному происхождению родителей с миграционным приростом в динамике с 2015 по 2023 год. Более того, представленные данные демонстрируют рождаемость среди людей, имеющих иностранное происхождение (которые могли получить гражданство РФ), а также мигрантов второго и последующих поколений.
В качестве общенаучных методов в работе использованы сравнительный анализ, синтез, аналогия, обобщение; в качестве статистических методов анализа - дескриптивная статистика, анализ рядов динамики. Так, в рамках анализа результатов ВПН 2002, 2010 и 2020 гг., а также статистических данных Управления статистики населения и здравоохранения построены ряды динамики показателей среднего числа детей на 1000 женщин соответствующей национальности, а также доли рождений граждан стран Центральной Азии на территории РФ. Проанализирована доля женщин по национальной принадлежности и числу рожденных детей с целью получения информации о вкладе представителей каждой национальности в рождаемость.
При помощи программного обеспечения MS Excel рассчитаны относительные показатели удельного веса, а также базовые и цепные темпы прироста названных выше показателей для рассмотрения вклада миграции из стран Центральной Азии в рождаемость в России.
Три базы данных имеют преимущества и недостатки, при этом использование их в совокупности позволяет нивелировать статистические неточности и оценить масштабы рождаемости мигрантов на территории России в двенадцатилетней ретроспективной динамике, поскольку каждая из них представляет собой результаты сплошного статистического наблюдения. Для оценки вклада мигрантов из стран Центральной Азии в рождаемость в Рос- сии проанализирован удельный вес числа детей, рожденных представительницами различных национальностей (по данным ВПН-2020), гражданками различных стран (по данным УСНЗ) и иностранного происхождения (УСНЗ) в общем числе рожденных на территории России детей. При возможном существовании неточностей в абсолютных статистических данных относительный показатель удельного веса представляет собой структурно достоверный, отражающий вклад миграции из стран Центральной Азии в рождаемость в России.
Исследование обладает элементами новизны в методологическом и содержательном плане вследствие использования трех источников информации (отражающих миграционный статус с трех сторон) и их сравнения с целью оценки вклада миграции из стран Центральной Азии в рождаемость РФ (в %).
Результаты
Анализ данных ВПН позволяет сделать выводы о динамике показателей среднего числа детей на 1000 женщин наиболее многочисленных национальностей (табл. 1) , в том числе в сравнении с иными национальностями. Согласно методологическим пояснениям к ВПН, к наиболее многочисленным национальностям РФ относятся те, население которых превышает 30 тыс. человек20.
Показатель среднего числа детей на 1000 женщин соответствующей национальности с 2002 по 2010 год снизился у русских, татар, азербайджанцев, грузин, таджиков (см. табл. 1). Средний темп прироста среди всех национальностей составил -1,3%. Средний темп прироста за два десятилетия -12,1%. В 2020 году по отношению к 2010 году данный показатель снизился у всех рассматриваемых национальностей (за исключением русских и кыргызов), по отношению к 2002 году – за исключением кыр-гызов. Оценка вклада представителей различных национальностей в рождаемость на основе анализа показателя «Численность женщин, указавших число рожденных детей» продемонстрирована в таблице 2 .
Таблица 1. Динамика долей представителей различных национальностей в общем числе лиц, указавших национальную принадлежность, и среднего числа детей на 1000 женщин соответствующей национальности, темпы прироста показателей
|
Национальность |
Доля представителей национальности от всех лиц, указавших национальную принадлежность, % |
Темп прироста доли представителей национальности от всех лиц, указавших национальную принадлежность, % |
Среднее число детей на 1000 женщин соответствующей национальности |
Темп прироста среднего числа детей на 1000 женщин соответствующей национальности, % |
||||||||
|
2002 |
2010 |
2020 |
2010 к 2002 |
2020 к 2010 |
2020 к 2002 |
2002 |
2010 |
2020 |
2010 к 2002 |
2020 к 2010 |
2020 к 2002 |
|
|
Русские |
80,64 |
80,9 |
80,85 |
0,32 |
-0,06 |
0,26 |
1446 |
1405 |
1442 |
-2,80 |
2,60 |
-0,30 |
|
Татары |
3,87 |
3,87 |
3,61 |
0,00 |
-6,72 |
-6,72 |
1711 |
1623 |
1622 |
-5,10 |
-0,10 |
-5,20 |
|
Армяне |
0,79 |
0,86 |
0,72 |
8,86 |
-16,28 |
-8,86 |
1680 |
1699 |
1139 |
1,10 |
-33,00 |
-32,20 |
|
Украинцы |
2,05 |
1,4 |
0,68 |
-31,71 |
-51,43 |
-66,83 |
1726 |
1749 |
1693 |
1,30 |
-3,20 |
-1,90 |
|
Азербайджанцы |
0,43 |
0,44 |
0,36 |
2,33 |
-18,18 |
-16,28 |
1830 |
1696 |
1447 |
-7,30 |
-14,70 |
-20,90 |
|
Евреи |
0,16 |
0,11 |
0,06 |
-31,25 |
-45,45 |
-62,50 |
1264 |
1264 |
1166 |
0,00 |
-7,80 |
-7,80 |
|
Грузины |
0,14 |
0,11 |
0,09 |
-21,43 |
-18,18 |
-35,71 |
1480 |
1381 |
1263 |
-6,70 |
-8,50 |
-14,70 |
|
Белорусы |
0,56 |
0,38 |
0,16 |
-32,14 |
-57,89 |
-71,43 |
1765 |
1777 |
1316 |
0,70 |
-25,90 |
-25,40 |
|
Чеченцы |
0,95 |
1,04 |
1,28 |
9,47 |
23,08 |
34,74 |
2163 |
2196 |
1623 |
1,50 |
-26,10 |
-25,00 |
|
Кыргызы |
0,02 |
0,08 |
0,11 |
300,00 |
37,50 |
450,00 |
1537 |
1568 |
1667 |
2,00 |
6,30 |
8,50 |
|
Узбеки |
0,09 |
0,21 |
0,25 |
133,33 |
19,05 |
177,78 |
1652 |
1666 |
1458 |
0,80 |
-12,50 |
-11,70 |
|
Таджики |
0,08 |
0,15 |
0,27 |
87,50 |
80,00 |
237,50 |
1774 |
1747 |
1622 |
-1,50 |
-7,20 |
-8,60 |
Составлено по: данные ВПН-2002, 2010, 2020.
Таблица 2. Доля женщин соответствующей национальности в общей численности женщин, указавших число рожденных детей, по числу детей в 2010 и 2020 гг., %
|
Национальность |
1 ребенок |
2 детей |
3 детей |
4 детей |
5 детей |
6 детей |
7 и более детей |
|||||||
|
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
2010 |
2020 |
|
|
Русские |
91,10 |
94,18 |
90,89 |
91,71 |
86,14 |
86,58 |
80,30 |
78,70 |
77,08 |
74,92 |
75,75 |
74,41 |
76,55 |
74,78 |
|
Татары |
4,71 |
3,38 |
4,48 |
4,91 |
6,26 |
6,46 |
7,35 |
6,16 |
10,47 |
8,15 |
10,26 |
6,80 |
9,32 |
6,19 |
|
Армяне |
0,94 |
0,45 |
0,79 |
0,73 |
1,46 |
1,30 |
1,54 |
1,21 |
1,05 |
0,78 |
0,92 |
0,64 |
0,71 |
0,41 |
|
Украинцы |
0,89 |
0,92 |
2,25 |
1,22 |
2,52 |
1,25 |
2,56 |
1,22 |
2,52 |
1,22 |
2,39 |
1,19 |
2,32 |
1,40 |
|
Азербайджанцы |
0,41 |
0,16 |
0,29 |
0,28 |
0,66 |
0,73 |
0,84 |
0,89 |
0,69 |
0,71 |
0,75 |
0,66 |
0,81 |
0,68 |
|
Грузины |
0,12 |
0,06 |
0,08 |
0,07 |
0,11 |
0,09 |
0,12 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
|
Белорусы |
0,22 |
0,22 |
0,65 |
0,30 |
0,69 |
0,29 |
0,72 |
0,28 |
0,74 |
0,30 |
0,70 |
0,28 |
0,66 |
0,33 |
|
Чеченцы |
1,30 |
0,42 |
0,37 |
0,51 |
1,68 |
2,40 |
5,73 |
9,35 |
6,73 |
11,85 |
8,58 |
14,09 |
9,16 |
14,64 |
|
Кыргызы |
0,09 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,11 |
0,18 |
0,20 |
0,43 |
0,14 |
0,37 |
0,13 |
0,28 |
0,07 |
0,15 |
|
Узбеки |
0,15 |
0,10 |
0,10 |
0,12 |
0,24 |
0,34 |
0,40 |
0,65 |
0,28 |
0,61 |
0,24 |
0,46 |
0,16 |
0,39 |
|
Таджики |
0,08 |
0,08 |
0,04 |
0,10 |
0,13 |
0,39 |
0,25 |
1,02 |
0,20 |
1,01 |
0,22 |
1,13 |
0,18 |
0,97 |
Составлено по: данные ВПН-2010, 2020.
Поскольку данные об абсолютном числе рожденных детей по национальному признаку имеются лишь по наиболее многочисленным национальностям, в 2002 году нет данных по национальностям Центральной Азии. Поэтому, принимая во внимание факт немногочисленности этих национальностей в 2002 году в РФ (доля узбеков составила 0,09%, таджиков – 0,08%, кыргызов – 0,02%), мы оцениваем вклад их представителей в рождаемость РФ как незначительный, поскольку даже при сохранении репродуктивного поведения, характерного для населения страны происхождения, их вклад в рождаемость РФ не мог превысить 0,1%.
По результатам ВПН-2010, от 76,5 до 93,6% женщин, родивших детей и указавших национальную принадлежность, являются русскими. По мере увеличения числа детей доля русских женщин, внесших вклад в рождаемость, начинает снижаться, однако доли представителей других национальностей по отдельности остаются незначительными. Наибольшие показатели у татар (в среднем они определяют российскую рождаемость на 7,3%), чеченцев (4,7%) и украинцев (2,3%). Вклад представителей иных национальностей по отдельности оценивается менее 1%, в первую очередь ввиду немногочисленности родителей, несмотря на превышение среднего числа детей на 1000 женщин соответствующей национальности. При этом репродуктивное поведение мигрантов из стран Центральной Азии относится скорее к социа-лизационному типу (ввиду сближения с показателями рождаемости коренного населения).
По данным 2020 года, от 74,8 до 94,2% женщин (что практически не отличается от 2010 года), родивших детей и указавших национальную принадлежность, являются русскими. По мере увеличения числа детей доля русских женщин, внесших вклад в рождаемость, начинает снижаться, однако доли представителей других национальностей по отдельности остаются незначительными. Наибольшие показатели у татар (в среднем они определяют российскую рождаемость на 6%), чеченцев (7,6%) и украинцев (1,2%). Вклад представителей иных национальностей по отдельности оценивается менее 1%. Так, по сравнению с 2010 годом в 2020 году вклад чеченцев, кыргызов, узбеков и таджиков в рождаемость в РФ вырос (на 3, 0,1, 0,2 и 0,3% соответственно), тем не менее вклад представителей Центральной Азии по-прежнему остается малым и составляет в среднем менее 1%. При этом вклад становится заметным при рождении представителями данной национальности третьего и четвертого ребенка.
Таким образом, несмотря на то, что в среднем представители различных национальностей, относящихся к Центральной Азии, рожают больше детей, чем русские (хотя за последние 20 лет показатель снизился у всех, кроме кыргызов), их вклад в российскую рождаемость остается незначительным и составляет около 1% в совокупности. При сохранении существующих темпов роста населения данных национальностей в структуре российского населения в течение 20 лет возможен рост доли кыргызов до 0,19%, узбеков – до 0,34%, таджиков – до 0,7% при снижении доли русских до 80,75%.
В таблице 3 представлен результат анализа данных Управления статистики населения и здравоохранения РФ относительно родившихся на территории РФ детей по гражданской принадлежности их родителей (матерей и отцов).
За период 2011–2023 гг. наибольшая доля рождений приходится на граждан РФ (в среднем за период 96,3% матерей и 85,8% отцов). При этом доля детей, рожденных гражданками РФ, в общем числе рождений ежегодно снижалась, за исключением 2021 и 2023 гг. Общий темп убыли за вышеуказанный период составил -3,1%.
Несмотря на рост доли отцов – граждан РФ в 2014–2016 гг., а также в 2021 и 2023 гг., общий темп убыли их доли в общем числе рождений составил -2,1%. Несмотря на рост доли детей, рожденных иностранными гражданами (базовый темп прироста составил 141,3% для матерей и 157% для отцов), их доля по-прежнему остается достаточно низкой (доля матерей-иностранок составила в среднем 2,7%; доля отцов – 2,5%). Резкое снижение доли иностранной рождаемости в 2018 году объясняется ростом доли родителей с неуказанным гражданством.
Наибольшую долю в общей иностранной рождаемости составляют граждане СНГ: в среднем 95% матерей и 88% отцов среди иностранных граждан, родивших детей на территории РФ, являются гражданами СНГ.
Доли граждан различных стран СНГ в общей рождаемости граждан СНГ в РФ менялись за вышеуказанный период. Так, с 2011 по 2023 год снизились доли матерей – гражданок всех рассматриваемых стран, за исключением Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Базовый темп прироста удельного веса представительниц данных стран составил 62,2, 149,4, 115,9% и 70,8% соответственно. Для отцов ситуация аналогичная: базовый темп прироста составил 129,9, 144,3, 143, 43,4% соответственно; положительным также оказался базовый темп прироста удельного веса граждан Казахстана среди отцов детей, рожденных на территории РФ (4,71%).
Таблица 3. Доля матерей и отцов соответствующей гражданской принадлежности в общей численности матерей и отцов, родивших детей в 2011–2023 гг., %
|
2011 |
2012 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Доля граждан РФ в общей рождаемости |
мать |
98,01 |
97,57 |
97,15 |
96,96 |
96,95 |
96,71 |
96 |
95,97 |
95,11 |
95,86 |
94,57 |
94,96 |
|
отец |
86,14 |
85,83 |
86,41 |
86,65 |
87,02 |
86,91 |
86,07 |
86,01 |
84,89 |
85,31 |
83,85 |
84,30 |
|
|
Доля иностранных граждан в общей рождаемости |
мать |
1,67 |
1,99 |
2,58 |
2,78 |
2,79 |
3,03 |
2,48 |
2,01 |
2,88 |
2,5 |
3,69 |
4,03 |
|
отец |
1,49 |
1,74 |
2,33 |
2,62 |
2,67 |
2,89 |
2,42 |
1,98 |
2,77 |
2,56 |
3,33 |
3,83 |
|
|
Доля лиц без гражданства в общей рождаемости |
мать |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
отец |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля лиц с неуказанным гражданством в общей рождаемости |
мать |
0,3 |
0,41 |
0,27 |
0,26 |
0,25 |
0,26 |
1,52 |
2,02 |
2 |
1,64 |
1,74 |
1,01 |
|
отец |
12,36 |
12,41 |
11,25 |
10,73 |
10,30 |
10,19 |
11,51 |
12,01 |
12,34 |
12,13 |
12,82 |
11,87 |
|
|
Доля граждан стран СНГ в иностранной рождаемости |
мать |
93,64 |
93,6 |
94,85 |
95,37 |
95,14 |
95,29 |
95,06 |
93,60 |
94,57 |
95,53 |
96,59 |
96,76 |
|
отец |
84,56 |
85,32 |
87,55 |
88,33 |
88,35 |
88,70 |
88,34 |
86,61 |
88,91 |
90,02 |
92,72 |
93,26 |
|
|
Азербайджан |
мать |
20,23 |
18,41 |
12,92 |
10,67 |
10,91 |
10,71 |
11,53 |
12,50 |
10,10 |
7,89 |
6,96 |
5,72 |
|
отец |
15,67 |
14,88 |
11,72 |
10,10 |
11,23 |
11,36 |
11,91 |
13,19 |
10,37 |
9,12 |
7,76 |
6,51 |
|
|
Армения |
мать |
13,89 |
13,54 |
12,29 |
11,64 |
11,70 |
11,29 |
10,59 |
4,75 |
6,34 |
5,61 |
3,32 |
3,70 |
|
отец |
11,40 |
11,87 |
11,65 |
11,41 |
11,70 |
11,48 |
10,61 |
4,92 |
6,75 |
6,26 |
4,39 |
5,16 |
|
|
Белоруссия |
мать |
2,41 |
2,73 |
2,92 |
2,79 |
3,04 |
3,13 |
2,99 |
1,93 |
1,97 |
1,63 |
0,87 |
0,96 |
|
отец |
5,75 |
5,47 |
4,59 |
4,33 |
4,78 |
4,98 |
4,39 |
2,61 |
3,31 |
3,15 |
1,99 |
2,19 |
|
|
Казахстан |
мать |
2,37 |
3,54 |
4,38 |
4,16 |
4,49 |
4,41 |
4,75 |
4,48 |
3,73 |
3,70 |
2,40 |
1,92 |
|
отец |
3,53 |
4,89 |
5,23 |
5,08 |
5,67 |
5,45 |
5,90 |
5,50 |
5,25 |
5,27 |
4,01 |
3,69 |
|
|
Кыргызстан |
мать |
12,74 |
12,09 |
12,54 |
12,22 |
14,37 |
16,89 |
10,86 |
8,29 |
16,92 |
18,45 |
14,12 |
20,68 |
|
отец |
8,24 |
7,21 |
7,61 |
7,64 |
9,39 |
11,48 |
7,87 |
5,85 |
13,36 |
14,12 |
12,35 |
18,95 |
|
|
Молдавия |
мать |
5,89 |
5,54 |
5,87 |
5,33 |
4,94 |
4,17 |
3,47 |
4,29 |
2,63 |
2,03 |
1,19 |
1,06 |
|
отец |
7,92 |
7,68 |
8,00 |
7,48 |
6,71 |
5,99 |
5,02 |
6,04 |
4,03 |
3,33 |
1,94 |
1,53 |
|
|
Таджикистан |
мать |
18,00 |
19,18 |
17,61 |
15,61 |
16,53 |
18,47 |
22,90 |
27,73 |
30,75 |
32,42 |
45,21 |
44,90 |
|
отец |
16,00 |
17,13 |
15,79 |
14,56 |
15,41 |
17,09 |
20,26 |
23,86 |
26,21 |
28,85 |
38,92 |
39,10 |
|
|
Туркменистан |
мать |
0,37 |
0,41 |
0,38 |
0,37 |
0,37 |
0,36 |
0,33 |
0,27 |
0,38 |
0,51 |
0,45 |
0,80 |
|
отец |
0,36 |
0,39 |
0,38 |
0,38 |
0,48 |
0,37 |
0,35 |
0,21 |
0,45 |
0,53 |
0,47 |
0,88 |
|
|
Узбекистан |
мать |
10,99 |
12,11 |
12,07 |
10,75 |
11,28 |
11,26 |
13,33 |
15,47 |
18,07 |
21,01 |
19,52 |
18,78 |
|
отец |
13,37 |
14,06 |
14,25 |
12,60 |
13,16 |
12,87 |
14,40 |
16,78 |
19,30 |
20,84 |
20,98 |
19,18 |
|
|
Украина |
мать |
13,10 |
12,45 |
19,02 |
26,47 |
22,38 |
19,32 |
19,26 |
20,29 |
9,12 |
6,74 |
5,96 |
1,47 |
|
отец |
17,76 |
16,42 |
20,79 |
26,42 |
21,46 |
18,93 |
19,28 |
21,04 |
10,98 |
8,54 |
7,18 |
2,81 |
Составлено по: данные Управления статистики населения и здравоохранения (по запросу).
Абсолютное число родившихся на территории РФ начало снижаться с 2016 года (средний темп убыли за период 2016–2023 гг. составил -5,18%). При этом абсолютное число рождений на территории РФ гражданками стран СНГ увеличилось в 1,75 раза при росте рождений матерями – гражданками Казахстана (на 58,1%), Кыргызстана (на 84%), Таджикистана (на 236,6%), Туркменистана (на 177,9%) и Узбекистана (на 99,1%). Абсолютное число рождений от отцов – граждан стран СНГ увеличилось в 1,8 раза при росте числа случаев с отцом – гражданином Казахстана (на 8,6%), Кыргызстана (на 258,1%), Таджикистана (на 286,8%), Туркменистана (на 284,2%), Узбекистана (на 85,8%).
Число рождений детей на территории РФ гражданами рассматриваемых стран характеризовалось изменением ежегодной динамики то в сторону роста, то в сторону снижения, что говорит об отсутствии единого устойчивого тренда. Абсолютное число рождений на территории РФ в 2023 было в 1,9 раза меньше, чем в 2011 году. Среднегодовой темп прироста абсолютного числа детей в РФ за период 2011– 2023 гг. составил -5,2% (при этом у матерей из Кыргызстана – 21,8%; Таджикистана – 17,7%; Туркменистана – 19,5%; Узбекистана – 12,7%). У отцов: 28,8; 17,7; 29,8%; 12,1% соответственно. Так, наиболее устойчивым стал прирост числа детей, чьи родителей являются гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Несмотря на это, их вклад в общую рождаемость в РФ составил в среднем 0,39 и 0,74% соответственно.
Таким образом, динамика роста как абсолютного числа детей, рожденных гражданами стран Центральной Азии на территории РФ, так и доли родителей – граждан этих стран, положительна. Тем не менее их вклад в общую рождаемость РФ остается незначительным – на уровне не более 2%, что подтверждает выводы рассмотренных ранее исследований. Если принимать во внимание, что рост рождаемости иностранцев происходит на фоне снижения рождаемости россиян, то гипотеза о возможности значительного вклада граждан Центральной Азии в рождаемость РФ преувеличена. Следовательно, опасения по поводу возможного замещения коренного населения мигрантами пока остаются ошибочными21.
Если ранжировать федеральные округа по темпам прироста доли родителей (матерей и отцов) из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана в общем числе рождений гражданами стран СНГ, то наибольший среднегодовой темп прироста отмечен в Центральном федеральном округе (доля родителей из стран Центральной Азии в общем числе рождений граждан стран СНГ ежегодно увеличивалась на 30,10%). Второе и третье места занимают родители из Южного (26,27%) и Северо-Кавказского федеральных округов (20,19%). Наименьший показатель – у Уральского федерального округа (4,74%), что обусловлено ежегодным снижением доли отцов из Узбекистана на 0,76%.
Доля родителей из Киргизии в общем числе родителей – граждан стран СНГ значительнее всего увеличивалась в ЦФО (доля матерей ежегодно росла в среднем на 67,14%; доля отцов – на 79,68%). Значительный ежегодный рост доли матерей из Киргизии также отмечен в ЮФО: темп прироста составил 84,23%, но доля отцов ежегодно увеличивалась лишь на 25,80%. Наименьший прирост доли родителей из Киргизии наблюдался в Дальневосточном федеральном округе: темп прироста доли матерей составил 3,66%, отцов – 6,50%.
Наибольший рост доли матерей и отцов из Таджикистана отмечен в СКФО: 27,66 и 16,81% ежегодно соответственно; наименьший – в ДФО: на 5,68% ежегодно увеличивалась доля матерей и на 3,52% – доля отцов.
Наибольшие темпы прироста доли родителей из Узбекистана зафиксированы в СКФО: доля матерей ежегодно росла на 14,85%, отцов – на 13,82%. Наименьшие темпы – в УФО: доля матерей ежегодно росла на 0,93%, а доля отцов снижалась на 0,76%.
Поскольку статистика уровня рождаемости по происхождению родителей является наиболее точным отражением миграционного статуса (ввиду вероятности прохождения гражданином иной страны процедуры натурализации), база данных, дифференцированная по месту рождения родителей, дает возможность дополнительно оценить вклад миграции в рождаемость в РФ, так как содержит информацию о числе рождений по федеральным округам, что сопоставимо с миграционным приростом в них. По данным о числе рождений по происхождению (месту рождения) родителей за период 2015–2023 гг. среднегодовой темп прироста числа рождений по РФ в целом матерями с иностранным происхождением составил -2,1%, отцами -2,2%. При этом важно отметить, что в Центральном федеральном округе среднегодовой темп прироста оказался положительным, составив 6,1% для матерей и 5,8% для отцов. Для обоих родителей цепной темп прироста был отрицательным дважды: в 2017 (-8,9 и -7,7%) и 2023 (-17,6 и -18,9%) годах. Наибольший среднегодовой темп прироста за вышеуказанный период отмечен в ЦФО в 2019 году (42,3% для матерей и 37,9% для отцов).
Рождаемость лиц с иностранным происхождением дифференцирована в рамках ЦФО: наибольшие доли приходятся на г. Москву и Московскую область. Так, за период 2015–2023 гг. средняя доля матерей с иностранным происхождением, родивших детей в Московской области, в общем числе матерей с иностранным происхождением в ЦФО составила 31,7%; отцов – 31,8%. На г. Москву (где статистика в разбивке по происхождению родителей имеется с 2017 года) в среднем приходилось 48,8% матерей и 41% отцов с иностранным происхождением (от всех родителей с иностранным происхождением в ЦФО). Следовательно, положительные значения прироста в ЦФО обеспечены в основном за счет вклада г. Москвы и Московской области в общую рождаемость в ЦФО.
В иных федеральных округах ситуация значительно отличается от столичного региона, что формирует общероссийский тренд: абсолютное число детей, рожденных лицами с иностранным происхождением, снижается. Наибольший среднегодовой темп убыли продемонстрирован в Северо-Кавказском федеральном округе, он составил -6,8% для матерей и -6,5% для отцов. В Северо-Западном и Южном федеральных округах среднегодовые темпы убыли составили -1,4, -1,9; -1,2, -0,9% соответственно. В Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах: -4,3, -3,3; -2,6, -2,1% и -2,7, -1,9%. В Дальневосточном федеральном округе отмечена незначительная убыль, по динамике схожая с показателем ЦФО, поскольку отрицательный прирост отмечен в 2017 и 2023 гг., а также незначительный – в 2021 году, а наибольший прирост приходится на 2019 год. Тем не менее прироста иных лет оказалось недостаточно для компенсации убыли в 2023 году, поэтому среднегодовой темп убыли составил -0,4% для матерей и -0,7% для отцов.
При этом представленная динамика коррелирует с миграционным приростом в федеральных округах, рождаемость лицами с иностранным происхождением на 75% определяется миграционным приростом. Это дает право предположить зависимость динамики числа рождений от «новых» мигрантов, что является основой для дальнейшего исследования.
Таким образом, с помощью проанализированных данных из трех источников, отражающих подходы к миграционному статусу (ВПН-2020, Управление статистики населения и здравоохранения по гражданству и происхождению родителей), был рассчитан вклад мигрантов из стран Центральной Азии (Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана) в рождаемость в России (табл. 4) . Вклад проанализирован как удельный вес (в %) числа рождений женщинами из стран Центральной Азии в общем числе рождений в России за период 2011–2023 гг. Наибольший вклад в российскую рождаемость внесли женщины из Таджикистана (0,6%), наименьший – из Казахстана (0,1%).
Заключение
Существующий в РФ демографический кризис, обусловленный естественной убылью населения, ежегодно усугубляется, порождая социально-экономические и демографические проблемы, такие как старение населения, снижение численности трудоспособного населения, как следствие, снижение ВВП и производительности труда. Ввиду сложившейся ситуации количественные характеристики населения РФ зависят от миграционного прироста, который до 2019 года компенсировал общую убыль населения.
Таблица 4. Вклад рождаемости женщин из соответствующих стран в общую рождаемость в России в 2011–2023 гг., %
|
Страна |
ВПН (национальная принадлежность матери) |
УСНЗ (гражданская принадлежность матери) |
УСНЗ (происхождение матери) |
|
Кыргызстан |
0,1 |
0,4 |
11,1 (среди всех граждан с иностранным происхождением без возможности дифференциации по странам с 2015 г.) |
|
Узбекистан |
0,2 |
0,4 |
|
|
Таджикистан |
0,2 |
0,6 |
|
|
Казахстан |
Не поддается оценке ввиду малочисленности казахов на территории РФ |
0,1 |
|
|
РФ |
90 |
96,4 |
83,5 |
|
Иные / не указано |
9,5 |
2,1 |
5,4 (происхождение не указано) |
Составлено по: данные ВПН-2020, данные Управления статистики населения и здравоохранения (по запросу).
Так, для оценки вклада мигрантов из стран Центральной Азии в рождаемость в РФ автором были использованы данные из трех источников, отражающих подходы к миграционному статусу: об удельном весе детей, рожденных женщинами по их национальной и гражданской принадлежности, а также по происхождению в общем числе рождений в РФ. Так, за период 2011–2023 гг. 1,5% рожденных на территории РФ детей являются потомками граждан стран Центральной Азии; потомками кыр-гызов, узбеков и таджиков по национальности являются 0,5% рожденных в РФ детей по состоянию на критический момент переписи 2020 года. Также за вышеуказанный период 11,1% детей имеют родителей с иностранным происхождением (родившихся за пределами территории РФ).
Исходя из полученных данных, представители национальностей, относящихся к странам Центральной Азии, имеют большее количество детей, чем русские, в среднем 3,2 ребенка на одну женщину (хотя данный показатель снизился за последние 20 лет у всех, кроме кыр-гызов). Вклад представителей иных национальностей (помимо русских) в российскую рождаемость по отдельности оценивается менее 1%, но он становится заметнее при рождении ими третьего и последующих детей. Данные о рождениях по гражданству родителей демонстрируют схожую динамику: несмотря на рост числа рождений у иностранных граждан на территории РФ, они определяют рождаемость в принимающей стране на 2%. Рождаемость среди лиц с иностранным происхождением на территории РФ дифференцирована по федеральным округам: с 2015 года она увеличилась лишь в ЦФО (доля г. Москвы и Московской области в общей рождаемости ЦФО в совокупности ежегодно составляла 73,6% в среднем за рассматриваемый период), что связано с его лидерством по общему миграционному приросту; численность детей, рожденных лицами с иностранным происхождением, на 75% определяется величиной миграционного прироста в федеральном округе, что дает право предположить значительный вклад «новых» мигрантов в рождаемость на территории РФ.
Таким образом, несмотря на серьезное внимание к рождениям у мигрантов, они по-прежнему вносят незначительный вклад в общую рождаемость в РФ, что не компенсирует снижение рождаемости коренного населения ввиду превышения темпов убыли рождаемости местного населения над темпами роста рождаемости мигрантов, а также возможной трансформации репродуктивных установок мигрантов со временем пребывания в новой стране. Рекомендацией к миграционной политике является регулярный мониторинг удельного веса и темпов роста рождаемости мигрантов и местных жителей, а также политика адаптации и интеграции для исключения вероятности демографической экспансии.
Список литературы Оценка влияния миграции из стран Центральной Азии на уровень рождаемости в России
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2023). Перспективы демографической экспансии России: экономика, институты, культура // Terra Economicus. Т. 21. № 2. С. 23-37. DOI: 10.18522/2073- 6606-2023-21-2-23-37
- Волан С., Пизон Ж., Эран Ф. (2020). Рождаемость во Франции — самая высокая в Европе. Причина в иммигрантах? // Демографическое обозрение. Т. 7. № 1. С. 118—126. DOI: 10.17323/demreview.v7i1.10823
- Денисов А.Ю. (2017). Рождаемость городского населения Европейского союза и ее значение для демографической политики. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55570/1/8udf1_16. pdf?ysclid=lwvemh2ipy313969398
- Золотарева О.А. (2020). Проблемы демографической экспансии сквозь призму оценки состояния миграции на евразийском пространстве // Стратегические задачи демографического развития: приоритеты и региональные особенности. Десятые Валентеевские чтения: сборник докладов / ред. О.С. Чудиновских, И.А. Троицкая, А.В. Степанова. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. С. 276—286. URL: https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=8961
- Имидеева И.В., Бадараева Р.В., Кованова Е.С. (2023). Демографическая компонента национальной безопасности // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 3. № 1. С. 12—23. DOI: 10.19181/ demis.2023.3.1.1
- Казенин К.И. (2017) Рождаемость в семьях мигрантов: данные, гипотезы, модели (обзор зарубежных исследований) // Демографическое обозрение. Т. 4. № 4. С. 6—79. DOI: 10.17323/demreview.v4i4.7528
- Карачурина Л.Б. (2007). Роль миграции в демографических процессах // Методология и методы изучения миграционных процессов. М. С. 237—259.
- Лифшиц М.Л. (2016). Данные о внешней миграции в России по различным источникам: сходство и противоречия // Статистика миграции населения // Вопросы статистики. № 2. С. 47—56. DOI: 10.34023/2313-6383-2016-0-2-47-56
- Пешкова В.М. (2022). Международная миграция и региональные неравенства в России: постановка вопроса // Вопросы национальных и федеративных отношений. Т. 12. № 12 (93). С. 4690—4706. DOI: 10.35775/ PSI.2022.93.12.031
- Прохорова Ю.А. (2015). К вопросу о гипотезах концепции четвертого демографического перехода // Пространство и Время. № 1-2 (19-20). С. 91-98.
- Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. (2022). Влияние внешней миграции на брачность и рождаемость в современной России // Научный результат. Социология и управление. Т. 8. № 1. С. 68-91. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-1-0-6
- Синельников А.Б. (2023). Миграционные процессы и рождаемость // Социология. № 6. С. 49-62.
- Топилин А.В. (2018). Влияние миграционных процессов на демографическую динамику и рождаемость в российских регионах // Наука. Культура. Общество. № 4. С. 59-66.
- Adserà A., Ferrer A.M., Sigle-Rushton W, Wilson B. (2012). Fertility Patterns of Child Migrants: Age at migration and ancestry in comparative perspective. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 643(1), 160-189. DOI: 10.1177/0002716212444706
- Afulani A., Asunka J. (2015). Socialization, adaptation, transnationalism, and the reproductive behavior of Sub-Saharan African migrants in France. Patience Population Research and Policy Review, 34(4), 561-592.
- Alderotti G. et al. (2022). Natives' and immigrants' fertility intentions in Europe: The role of employment. Les intentions de fécondité des natifs et des immigrés en Europe: Le rôle de l'emploi. Espace populations sociétés, 2-3, DOI: https://doi.org/10.4000/eps.13039
- Andersson G. (2004). Childbearing after migration: Fertility patterns of foreign-born women in Sweden. International Migration Review, 38(2), 747-774. DOI: 10.1111/j.1747-7379.2004.tb00216.x
- Carlsson E. (2023). Fertility Behaviour and Preferences among Immigrants and Children of Immigrants in Sweden. Stockholm University. Available at: https://su.divaportal.org/smash/get/diva2:1752396/FULLTEXT01.pdf
- Goldstein S., Tirasawat P. (1977). The Fertility of Migrants to Urban Places in Thailand. Honolulu: East-West Population Institute.
- Hendershot G.E. (1971). City migration and urban fertility in the Philippines. Philippines Sociological Review, 19(3), 183-193.
- Jennings J.A., Sullivan A.R., Hacker J.D. (2012). Intergenerational transmission of reproductive behavior during the demographic transition. JInterdiscip Hist, 42(4), 543-569. DOI: 10.1162/jinh_a_00304
- Kazbekova Z. (2018). Impact of the demographic dividend on economic growth. Population and Economics, 2(4), 85-135. DOI: 10.3897/popecon.2.e36061
- Milewski N. (2010). Fertility behavior of immigrant women in Germany: An analysis with generalized additive models. Demographic Aspects of Migration, 179-207. DOI:10.1007/978-3-531-92563-9
- Milewski N. (2011). Transition to a first birth among Turkish second-generation migrants in Western Europe. Advances in Life Course Research, 16, 178-189. DOI:10.1016/j.alcr.2011.09.002
- Poveda A.D.R., Ortega J.A. (2010). The impact of migration on birth replacement - the Spanish case. In: Salzmann T., Edmonston B., Raymer J. (Eds). Demographic Aspects ofMigration, 97-121. DOI:10.1007/978-3-531-92563-9_4
- Rogers A., Castro L. (1981). Model Migration Schedules. Research Report RR-81-30. Laxenburg: IIASA.