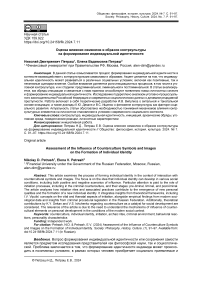Оценка влияния символов и образов контркультуры на формирование индивидуальной идентичности
Автор: Петраш Николай Дмитриевич, Петраш Елена Вадимовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье осмысливается процесс формирования индивидуальной идентичности в контексте взаимодействия с контркультурными символами и образами. Акцент делается на том, что индивидуальная идентичность может развиваться в различных социальных условиях, включая как позитивные, так и негативные сценарии влияния. Особое внимание уделяется роли инициационных процессов, в том числе в уголовной контркультуре, и их стадиям: предлиминальной, лиминальной и постлиминальной. В статье анализируется, как обряды инициации и связанные с ними практики способствуют появлению новых личностных качеств и формированию индивидуальной идентичности. Исследование подкреплено анализом уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и современных социологических данных о динамике рецидивной преступности. Работа включает в себя теоретические разработки И.В. Випулиса о витальной и танатальной основе инициации, а также доклады К.Ю. Деканя и В.С. Ищенко о феномене контркультуры как факторе социального развития. Актуальность статьи обусловлена необходимостью понимания механизмов влияния контркультурных элементов на личностное становление в условиях современного социального контекста.
Контркультура, индивидуальная идентичность, инициация, архаические обряды, уголовная среда, поведенческие реакции, личностные характеристики
Короткий адрес: https://sciup.org/149145962
IDR: 149145962 | УДК: 159.922 | DOI: 10.24158/fik.2024.7.11
Текст научной статьи Оценка влияния символов и образов контркультуры на формирование индивидуальной идентичности
одобряемые личностные характеристики, а также в негативных, когда субъект «впитывает» социально неприемлемые поведенческие нормы. Указанные факты свидетельствуют об актуальности настоящей работы, цель которой – проанализировать и оценить то влияние, которое контркультурные символы и образы оказывают на формирование индивидуальной идентичности.
Методы исследования:
-
1. Анализ уголовно-процессуального законодательства РФ и социологических данных о рецидивной преступности обеспечен применением методов правового и статистического анализа.
-
2. Использование теоретических разработок ряда исследователей (И.В. Випулиса, К.Ю. Деканя, В.С. Ищенко) по темам инициации и контркультуры основывалось на методах теоретического анализа научной литературы, сравнения и обобщения концепций.
-
3. Рассмотрение механизмов влияния контркультурных элементов на личностное становление осуществлялось через методы психологического анализа, в том числе case study.
-
4. Исследование феномена идентичности, ее структуры и динамики предполагало применение методологии психологии личности и социальной психологии.
-
5. Анализ практик инициации в криминальном сообществе основан на изучении эмпирических данных (материалов дел, интервью, наблюдений), с использованием методов понимающей социологии.
Результаты и их обсуждение . Переходя от общего описания процесса инициации к конкретным примерам из уголовной контркультуры, следует отметить особую роль испытаний, через которые проходит неофит на лиминальной стадии. Именно в ходе них закладывается фундамент новой идентичности индивида, формируются и закрепляются его качества и навыки, необходимые для полноценного членства в сообществе. Успешное прохождение испытаний служит подтверждением того, что неофит готов принять новую роль и статус, и одновременно является механизмом интеграции в контркультурную среду. Характер такого рода проверок во многом определяется спецификой самой контркультуры, ее ценностями и нормами.
В первую очередь представляется необходимым раскрыть содержание термина «контркультура» и проанализировать историю указанного феномена. Анализ социологической литературы позволяет утверждать, что понятие «контркультура» демонстрирует наличие в себе двух смыслов: узкого и широкого. Так, контркультурное движение в его классическом понимании возникает в начале 1960-х гг. в Соединенных Штатах Америки и продолжается вплоть до 70-х гг. XX в. (Bousalis, 2021). Оно объединило определенное количество людей, на сегодняшний день известных как «хиппи», которые выступали против войны во Вьетнаме, коммерциализма и традиционных общественных норм. Участники этого движения стремились к более счастливой и спокойной жизни и часто обеспечивали ее себе, экспериментируя с запрещенными веществами.
Нельзя игнорировать тот факт, что контркультурное движение связано с музыкой того времени. Так, наиболее часто при упоминании контркультуры 60-х гг. XX в. речь идет о группах «The Beatles», «The Doors».
Во время контркультурного движения посещаемость психоделических рок-шоу резко возросла. По мере увеличения числа участников они становились все более изощренными. Одним из самых запоминающихся музыкальных фестивалей этого времени стал Вудстокский фестиваль музыки и искусства. Этот крайне неорганизованный трехдневный концерт был воплощением контркультуры – от одежды, в которую были одеты участники, до антивоенных посланий, с которыми выступали музыкальные исполнители.
Во многом мода «хиппи» возникла благодаря их противостоянию коммерции. Большую часть одежды представители этого движения покупали не в крупных магазинах, а на дворовых распродажах или блошиных рынках. Одежда выделяла их на фоне остальных представителей общества, потому что хиппи носили вещи яркого цвета и вызывающего покроя, которые другие граждане отказывались надевать. Такой образ позволял хиппи заявить о том, кем они были и во что верили.
Контркультурное движение в основном поддерживало антивоенное движение. Его представители организовывали акции протеста с плакатами, пропагандирующими мир, любовь и запрещенные вещества. Сжигание призывных карточек также было символом их убеждений и стало иконой антивоенного движения.
Что касается второго смысла, более широкого, то он находит отражение в работах различных исследователей, среди которых следует отметить О.Б. Маяцкую (Маяцкая, 2018). Так, автор, систематизируя различные определения термина «контркультура», утверждает, что она представляет собой совокупность социальных и культурных установок, отрицающих принципы фундаментального характера, справедливые по отношению к отдельно взятому культурному пространству. Кроме того, такой смысл является преобладающим при условии, что исследователь полагает, что один тип культуры был заменен на другой.
Если обратиться к историческим фактам, то выяснится, что широкое понимание термина «контркультура» позволяет присвоить это обозначение совершенно различным явлениям. В част- ности, христианская религия, изначально являющаяся сектантской ветвью иудаизма, в рамках которой ее последователи были убеждены, что их наставник погиб и воскрес, являлась контркультурным движением относительно культуры иудеев. Схожим образом следует понимать отношения между научным и телеологическим знанием в Средние века. Так, исследователи, отрицавшие божественное происхождение Вселенной, подвергались репрессиям. И хотя изначально научное знание того времени являлось контркультурным движением, позднее произошло следующее: представители католической церкви обратились к ученым с просьбой доказать существование Бога с научных позиций, в результате чего появились такие философские труды, как «Этика» Баруха Спинозы и другие. Следовательно, в качестве контркультуры можно рассматривать совершенно различные, на первый взгляд, явления. В настоящем исследовании используется термин «контркультура» в его широком смысле.
В рамках настоящей работы интерес представляет термин «индивидуальная идентичность». Д.В. Кузина и М.О. Акимова, которые утверждают, что индивидуальная идентичность представляет собой систему, включающую в состав себя различные проявления процесса, в рамках которого индивид взаимодействует с множественными аспектами как внешнего, так и внутреннего мира (Кузина, Акимова, 2020). Одной из наиболее существенных ее характеристик становится чувство «Я» индивида. Иными словами, речь идет о «самотождественности», под которой следует понимать то, каким образом индивид соотносит аспекты внешнего и внутреннего мира со своей «самостью».
Отвечая на вопрос о том, каким образом индивидуальная идентичность формируется, следует обратиться к исследованию С.Г. Чухина и Е.В. Чухиной, которые включают в структуру идентичности любого индивида как личностный аспект, так и социальный (Чухин, Чухина, 2021). Так, под первым следует понимать самостоятельное определение индивида в терминах его черт физического, нравственного и интеллектуального характера. Если же речь идет об общественной идентичности, то предполагается соотнесение индивидом себя с определенными социальными группами.
Необходимо акцентировать внимание на том факте, что идентичность не является зафиксированной раз и навсегда категорией, так как характер жизненного человеческого пути оказывает существенное влияние на динамичность самой идентичности. При этом нельзя утверждать, что лишь социальные изменения обуславливают смену самоощущения, так как оно включает в состав себя различные компоненты: когнитивный, смысловой, эмоциональный, ценностный и деятельностный (Лебедева, 2021).
М.В. Лебедева утверждает, что от того, каким образом личностная и социальная идентичность взаимодействуют друг с другом, зависит состояние Я-идентичности (Лебедева, 2021). Так, если их представить в виде двух измерений, то личностная идентичность будет вертикальным измерением, в рамках которого уникальный путь индивида станет соприкасаться с историческим процессом. Социальная же идентичность, которую следует представить в виде горизонтали, будет занята обеспечением субъекта возможностью соответствовать требованиям, предъявляющимися различными ролевыми системами, участником которых он является.
Если личностная и социальная идентичности находятся в дисбалансе, Я-идентичность не возникнет. При этом техники взаимодействия индивида со значимыми близкими и иным окружением не только устанавливают баланс, но и продолжают поддерживать его в течение всей жизни.
Таким образом, именно межличностная коммуникация позволяет индивиду обнаружить и прояснить свою идентичность, что связано с его попытками привести свои действия в соответствие с партнерскими ожиданиями. Однако не только желание соответствовать представлениям других становится причиной прояснения идентичности, так как, помимо прочего, индивид стремится доказать партнеру свою уникальность.
В рамках настоящей работы особый интерес представляет мнение А.Ф. Поломошнова, проанализировавшего содержание термина «социальная идентичность» (Поломошнов, 2020). Так, автор полагает, что она представляет собой комплексное взаимодействие отождествлений, которое основано на возрастных характеристиках индивида, его этносе, поле, принадлежности к определенному социальному классу, религиозных воззрениях. Кроме того, социальная идентичность включает в состав себя временное измерение, так как возникает в результате синтеза индивидуальной и общественной истории.
Иными словами, идентичность, являющаяся структурой динамичного характера, изменяется в соответствии с теми преобразованиями, что справедливы для отдельно взятой общественной группы и ситуации. Следовательно, социальная идентичность является отражением действий индивида в рамках общества, определяющего характер его идентичности. При этом она не выражает его мнение об обществе. Указанные факты позволяют утверждать, что индивидуальная идентичность возникает как побочный продукт социальной, однако с течением времени в процессе своего формирования она оказывает существенное влияние на последнюю.
Отсюда следует, что принадлежность индивида к определенной культуре, субкультуре или контркультуре определяет формирование его социальной и, следовательно, индивидуальной идентичности.
Ряд исследователей, среди которых следует отметить К.Ю. Декань и В.С. Ищенко, утверждают, что личностные характеристики индивида, сформированные в результате его принадлежности к контркультурному движению, демонстрируют наличие следующих черт (Декань, Ищенко, 2019): – индивид лишен каких-либо устремлений, характеризуется отсутствием способности принимать волевые решения, не может определиться со своим местом в жизни;
-
– чувственность такого субъекта является хаотической, аморфной, размытой;
-
– индивид не принимает любые проявления упорядоченности, стремится исключить из своей жизни какую-либо организованность;
-
– поведенческие реакции человека становятся импульсивными, нерациональными, так как он осознанно противопоставляет их традиционным для других людей устремленности и последовательности;
-
– наличие гедонистических установок, желание получить все «сейчас и сразу».
Далее, представляется необходимым проанализировать процесс, в рамках которого контркультурные символы и образы формируют индивидуальную идентичность. В связи с этим обратимся к работам И.В. Випулис. Так, автор высказывает точку зрения, согласно которой на сегодняшний день к контркультуре необходимо отнести уголовную среду, замкнутость и обособленность которой позволяет не только формировать новые, но и видоизменять старые идеологии, в результате чего общепринятые ценности не столько отрицаются, сколько «переворачиваются с ног на голову»; например, неофициальное «наркотическое сообщество» и т. д. (Випулис, 2019).
Кроме того, центральной идеей автора является следующая: вступление индивида в контркультурное сообщество строится по законам, характерным для процесса архаической инициации. Последняя в самом общем смысле обозначает совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых – произвести решительное изменение религиозного и социального статусов посвящаемого (Kuratchenko, Lugovoy, 2019). В философском смысле инициация эквивалентна базовому изменению экзистенциального состояния; неофит выходит из своего испытания, наделенный совершенно иной сущностью, чем та, которой он обладал до инициации: он стал другим.
Среди различных категорий инициации пубертатная (обряд взросления) особенно важна для понимания человека предсовременности. Эти «переходные обряды» были обязательны для всех юношей в традиционном племени. Чтобы получить право быть принятым среди взрослых, подросток должен был пройти через ряд инициационных испытаний: именно благодаря им и связанным с ними откровениям он мог быть признан ответственным членом общества.
Инициация вводит кандидата в человеческое сообщество, в мир духовных и культурных ценностей. Он усваивает не только модели поведения, приемы и институты взрослых, но и священные мифы и традиции племени, имена богов и историю их деяний; узнает о мистических отношениях между племенем и сверхъестественными существами, о том, как это взаимодействие было установлено в начале времени.
Каждое первобытное общество обладает последовательным сводом мифических традиций, «концепцией мира»; и именно она постепенно раскрывается перед неофитом в процессе его инициации. Речь идет не просто об обучении в современном понимании этого слова. Чтобы стать достойным священного учения, послушник должен быть сначала духовно подготовлен. Ведь то, что он узнает о мире и человеческой жизни, не является знанием в современном понимании этого слова, а представляет собой, скорее, объективную и разрозненную информацию, которую можно бесконечно исправлять и дополнять. Мир – это работа сверхъестественных существ, работа божественная и, следовательно, священная по самой своей структуре. Человек живет во Вселенной, которая не только сверхъестественна по своему происхождению, но и не менее священна по своей форме, иногда даже по своей сути. У мира есть «история»: сначала его создание сверхъестественными существами; затем все, что происходило после этого, – приход цивилизационного героя или мифического предка, их культурная деятельность, демиургические приключения и, наконец, исчезновение.
Эта «священная история» – мифология – является образцовой, парадигматической: она не только рассказывает о том, как все возникло, но и закладывает основы всего человеческого поведения и всех социальных и культурных институтов. Из того факта, что человек был создан и цивилизован сверхъестественными существами, следует, что совокупность его поведения и деятельности относится к священной истории; и эта история должна быть тщательно сохранена и передана в целости последующим поколениям. По сути, человек стал таким, какой он есть, потому что на заре времени с ним произошли определенные события, о которых повествуют мифы. Так же, как современный индивид провозглашает себя историческим существом, созданным человеческой историей, так и субъект архаических обществ считает себя конечным продуктом мифической истории, то есть ряда событий, произошедших в начале времени.
Именно к этим традиционным знаниям допускаются новички. Они получают длительные наставления от своих учителей, становятся свидетелями тайных церемоний, проходят ряд испытаний. И именно они составляют религиозный опыт инициации – встречу с сакральным.
Большинство инициационных испытаний более или менее четко подразумевает ритуальную смерть, за которой следует воскрешение или новое рождение. Центральным моментом каждой инициации является церемония, символизирующая смерть послушника и его возвращение к общению с живыми. Но он становится новым человеком, принимая другой способ существования. Инициационная смерть означает конец детства, невежества и профанного состояния.
Для архаической мысли ничто лучше не выражает идею конца, безвозвратного завершения чего-либо, чем смерть, так же как ничто лучше не выражает идею творения, создания, строительства, созидания, чем космогония. Космогонический миф служит парадигмой, образцовой моделью для любого вида творчества. Ничто так не гарантирует успех любого творения (деревни, дома, ребенка), как копирование его по образцу величайшего из всего созданного – космогонии.
Кроме того, необходимо отметить следующее: любая инициация включает в себя три стадии: предлиминальную, лиминальную и постлиминальную. В рамках первой неофит проходит соответствующую самому обряду «подготовку», в рамках второй – принимает непосредственное участие в испытаниях, в ходе третьей – рождается новой личностью, обладающей «эмерджентными» качествами. Иными словами, по завершению инициации бывший неофит становится качественно иным индивидом, чьи личностные характеристики демонстрируют наличие существенных изменений относительно тех, которыми он обладал до инициации. Следовательно, структура обряда и сопряженные с ним практики не только наделяют субъекта новыми качествами, но и формируют его измененную индивидуальную идентичность.
Проанализируем, каким образом это происходит с человеком, ставшим частью уголовной контркультуры.
-
1. Предлиминальная стадия. Это «подготовительный» этап в рамках обрядов перехода. Неофит в традиционном племени получает определенные наставления, морально готовит себя к будущим испытаниям. Что касается уголовной контркультуры, то, согласно статье 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, индивид становится ее частью, получив статус об-виняемого1. После этого судья в рамках избрания меры пресечения должен решить, где человек будет ожидать основного судебного процесса по своему уголовному делу: дома или же в следственном изоляторе (СИЗО). Допустим, субъекту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего приблизительно на две недели он попадает в «карантинное» отделение СИЗО. Именно в этот момент он вступает в предлиминальную стадию инициации, в рамках которой, находясь в одиночестве, морально готовится к предстоящим испытаниям.
-
2. Лиминальная стадия. Полагаем, что в рамках тюремной контркультуры она находит отражение в «тюремной прописке». После окончания «карантинного» периода обвиняемый попадает в «общую» камеру, в которой ему предстоит содержаться вместе с другими арестантами. С.Б. Пономарев утверждает, что архаичный характер «тюремной прописки» можно сравнить с теми явлениями, что справедливы в отношении как переходных обрядов традиционных обществ, так и практик тайных обществ, например, масонских (Пономарев, 2023). Схожесть с последними находит отражение в следующем факте: «прописке» подлежат лишь потенциальные члены группы. Иными словами, она не является обязательной по своему смыслу: человек, заявляющий, что не имеет никакого отношения к «криминальному» миру, не станет проходить ее.
-
3. Постлиминальная стадия. В рамках этой стадии индивид может формально покинуть тюремную контркультуру, например, освободившись из мест лишения свобода. В результате он получает новые качества, его индивидуальная идентичность существенно изменяется. Подтверждением этого тезиса являются результаты анализа количества рецидивов в России: так, в 2021 г. порядка 37 % ранее судимых граждан вернулись в места лишения свободы1.
Полагаем, что функциями «тюремной прописки» являются следующие: проверить и принять неофита в криминальную группу, выяснить, соответствует ли он ее базовым ценностям; и если неофит согласен пройти «обряд», общество определяет его будущую деятельность: плести «коней» (веревки, которые натягиваются между окнами различных камер для ведения переписки и передачи запрещенных предметов), следить за «дорогой» (передавать письменные послания или запрещенные предметы в другие камеры); в дальнейшем его обучают выбранной тюремной специальности и втягивают в противоправную деятельность. Из анализа основных функций следует, что такого рода «прописка» соответствует лиминальному периоду, каким он понимается в рамках тайного общества.
Представляется необходимым акцентировать внимание на самих испытаниях, характерных для лиминального периода обряда инициации. Так, основой их, как и архаических обрядов перехода, становятся испытания психофизического характера, в рамках которых тюремное общество проверяет неофита на то, насколько сообразительным он является, обладает ли навыками, позволяющими себя защитить и так далее.
Тесты – вот что является основным средством, позволяющим проверить интеллектуальные навыки неофита. В качестве примера необходимо привести следующую процедуру: на стене рисуется гитара, после чего неофиту предлагают сыграть на ней. В действительности правильного, единственно верного ответа не существует, так как принимаются любые предложения, претендующие на оригинальность. Так, например, неофит может сыграть в «крестики-нолики» на гитарных струнах. При неправильном ответе на заданный тест-прикол следует наказание в виде жестоких побоев, денежного штрафа, инвективы-брани. Отметим, что этот элемент напоминает докимассию с ритуальным унижением посвящаемого в древневосточных ритуалах (в ранних вариантах – убийством, поздних – избиением).
Важным архаическим элементом в тюремном посвящении, разыгрываемом, как правило, в форме развлекательного представления, является юмор. Для жертвы в период её страданий общий смеховой фон испытания создаёт дополнительное психологическое напряжение. И.В. Випулис, объясняя эту особенность, утверждает, что «смотрящий» (наиболее авторитетный человек в тюремной камере) является носителем смехового начала, что достигается посредством использования «дурацкой маски», преимущество которой заключается в следующем: он может обнаруживать и осмеивать ложных героев, выставлять чужие пороки напоказ (Випулис, 2021). В указанном случае он становится трикстером, шутом, чья деятельность включает в себя желание обмануть неофита. Как и в архаике, инициатор, в данном случае – «смотрящий», провоцируя, подводит индивида к пределу его человеческих сил, активизирует волю, мужество, способствует «пробуждению героя».
Таким образом, практики «тюремной прописки» по своей структуре и смыслу во многом воспроизводят архаические обряды инициации, выполняя сходные социальные функции в рамках криминальной субкультуры.
Заключение . На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам. Контркультура, представляющая собой совокупность социальных и культурных установок, отрицающих господствующие принципы фундаментального характера, оказывает такое влияние на индивидуальную идентичность человека, при котором индивид демонстрирует отсутствие способности принимать волевые решения, отрицает упорядоченность, организованный характер жизни, его поведение становится импульсивным и нерациональным.
В рамках настоящей работы мы исходили из предположения, что погружение человека в контркультурное движение (на примере мест лишения свободы, уголовной среды) по своей сути сопоставимо с прохождением обряда инициации. Так, в уголовной среде присутствует предли-минальная стадия архаического обряда, в рамках которой обвиняемый содержится в карантинном отделении следственного изолятора и морально готовится к прохождению будущих испытаний. Далее, «тюремная прописка», представляющая собой непосредственно инициацию (лими-нальную стадию), предполагает прохождение испытаний, например, дачу ответов на вопросы «с подвохом». Наконец, для завершения инициации, в рамках постлиминальной стадии, бывший осужденный демонстрирует наличие «эмерджентных» качеств, которыми ранее он не обладал, что указывает на следующий факт: символы и образы контркультуры существенно влияют на формирование индивидуальной идентичности при условии, что субъект желает стать частью этой контркультуры. Вопрос о том, насколько новые качества являются социально приемлемыми, остается дискуссионным, так как они по своей сути дезадаптивны вне мест лишения свободы и провоцируют возвращение в тюрьму.
Список литературы Оценка влияния символов и образов контркультуры на формирование индивидуальной идентичности
- Випулис И.В. Витальная и танатальная основа инициации // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2019. № 4 (41). С. 33–37. https://doi.org/10.30725/2619-0303-2019-4-33-37.
- Випулис И.В. Инициация в свете смыслогенетической теории культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 4 (102). С. 31–36. https://doi.org/10.24412/1997-0803-2021-4102-31-36.
- Декань К.Ю., Ищенко В.С. Феномен контркультуры как фактор современного социального развития // II Моисеевские чтения: культура как фактор национальной безопасности России. М., 2019. С. 414–416.
- Кузина Д.В., Акимова М.О. Идентичность как предмет психологического исследования // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 2. С. 122–126. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-2-122-126.
- Лебедева М.В. Идентичность как социально-психологический феномен // Интернаука. 2021. № 19-2 (195). С. 68–69.
- Маяцкая О.Б. Чайлдфри как контркультура и личностная философия // Евразийский юридический журнал. 2018. № 12 (127). С. 503–505.
- Поломошнов А.Ф. Современные концепции идентичности // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2020. № 4-2 (38). С. 18–25.
- Пономарев С.Б. Тюремная «прописка», буддийские коаны и законы формальной логики // Научный вестник Омской академии МВД России. 2023. Т. 29, № 2 (89). С. 168–173. https://doi.org/10.24412/1999-625X-2023-289-168-173.
- Чухин С.Г., Чухина Е.В. Факторы и закономерности формирования идентичности личности // Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (Инсайт). 2021. № 4 (7). С. 114–131. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-114-131.
- Bousalis R.R. The Counterculture Generation: Idolized, Appropriated, and Misunderstood // The Councilor: A Journal of the Social Studies. 2021. Vol. 82, iss. 2. Р. 1–26.
- Kuratchenko M., Lugovoy K. Perception of Disability in the Communicative Practice of Archaic Societies // Proceedings of the Inter-nation Conference on "Humanities and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects" (HSSNPP 2019). 2019. Vol. 333. P. 83–88. https://doi.org/10.2991/hssnpp-19.2019.16.