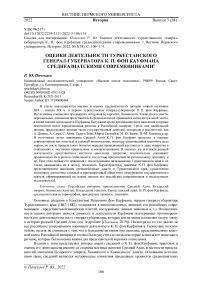Оценки деятельности туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана среднеазиатскими современниками
Автор: Почекаев Р.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История в биографическом измерении
Статья в выпуске: 3 (58), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются мнения и оценки среднеазиатских авторов второй половины XIX - начала XX в. о первом туркестанском генерал-губернаторе К. П. фон Кауфмане. Исследованы сообщения придворных историков Бухарского, Хивинского, Кокандского ханств, персональных дневников представителей среднеазиатской правящей и интеллектуальной элиты, а также оценки деятельности Кауфмана, бытующие среди среднеазиатского населения в первые десятилетия после присоединения региона к Российской империи. Среди них наибольший интерес представляют записки таких государственных деятелей, историков и мыслителей, как А. Дониш, А. Сами, С. Айни, Садр-и Зийа, Мирза Салимбек, М. Ю. Баяни, Н.-М. Хоканди и др. В источниках эпохи завоевания Средней Азии К. П. фон Кауфман предстает в оценках современников как опытный и суровый военачальник, поначалу стремившийся закончить дело миром, но после провала таких попыток нередко проявляющий жестокость и даже коварство в отношениях с местными правителями и военачальниками. В оценках же его последующей деятельности представители местного населения, напротив, положительно оценивают принесенную им в регион стабильность, отсутствие притеснений по религиозному принципу и пр. При этом любые его сравнения с последующими начальниками Туркестанского края в их глазах оказывались не в пользу последних. Характеристики, даваемые К. П. фон Кауфману представителями населения среднеазиатских ханств и Туркестанского края, существенно дополняют достаточно сложный и противоречивый образ этого незаурядного государственного деятеля, сформированный на основе записок его российских современников и последующих исследователей.
Российская империя, присоединение средней азии, бухарский эмират, хивинское ханство, кокандское ханство, туркестанский край, к. п. фон кауфман, среднеазиатская историография, придворные хроники, дневники
Короткий адрес: https://sciup.org/147246429
IDR: 147246429 | УДК: 94(517) | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-3-106-114
Текст научной статьи Оценки деятельности туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана среднеазиатскими современниками
Основные сведения о Константине Петровиче фон Кауфмане, первом генерал-губернаторе Туркестанского края (1867–1882), содержатся в многочисленных записках его российских современников – представителей имперских властей, сослуживцев, личных знакомых и т.д. Неоднозначность оценок авторами записок личности и деятельности Кауфмана подчеркивает противоречивость его деятельности на посту генерал-губернатора, которая тем не менее составляет целую эпоху в истории русской Средней Азии (см. подробнее [ Почекаев , 2019]). Несмотря на то что далеко не все российские современники оценивали деятельность К. П. фон Кауфмана в Туркестане положительно, нельзя не считаться с тем, что в большинстве своем они являлись представителями властной элиты Российской империи и готовы были упустить из вида некоторые аспекты его политики в регионе, которые были весьма важны для представителей коренного населения.
В связи с этим представляет интерес анализ сведений о К. П. фон Кауфмане, трактовок и оценок его деятельности именно со стороны местных жителей Средней Азии, в частности представителей населения Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского2 ханств. Основными источниками таких сведений являются исторические сочинения придворных хронистов среднеазиатских
ханов (хивинские Мухаммад Риза Агахи, Мухаммад Юсуф Баяни, кокандский Нияз-Мухаммад Ху-канди) или же исторические хроники, составленные по личной инициативе их авторов (бухарские сановники Ахмад Дониш, Абдал’Азим Сами, общественный деятель Садриддин Айни, кокандские авторы Мухаммад-Салих Ташканди и Мухаммад Азиз Маргилани), дневниковые записки представителей властной и интеллектуальной элиты ханств (бухарские чиновники Садр-и Зийа и Мирза Салимбек), свидетельства современников, зафиксированные российскими чиновниками (в частности, Н. И. Веселовским и Н. Ф. Петровским) и т.д.
Эти сведения уже неоднократно привлекались исследователями, но, как правило, для иллюстрирования российской имперской политики в Средней Азии в целом или же в отношении того или иного ханства3. В настоящей статье предпринимается попытка систематизировать сведения среднеазиатских современников, посвященные именно отдельным направлениям деятельности К. П. фон Кауфмана, выявить сходства и отличия в освещении его действий отдельными авторами. Безусловно, среднеазиатские авторы не ставили своей целью дать целостную характеристику личности и политики Кауфмана в регионе, поэтому их упоминания о его деятельности достаточно кратки и эпизодичны. Тем не менее анализ и систематизация этих сведений, как представляется, позволят сформировать более-менее целостное представление об отношении населения Средней Азии к первому туркестанскому генерал-губернатору. В настоящем исследовании сначала будут рассмотрены сведения о ведении К. П. фон Кауфманом боевых действий против ханств, а также их оценки среднеазиатскими авторами, затем – сообщения о периоде «устроения» им Туркестанского края, включая выстраивание отношений с ханствами, ставшими российскими протекторатами.
Учитывая, что К. П. фон Кауфману, несмотря на постоянное декларирование мирных намерений в отношении Бухары, Хивы и Коканда, пришлось много лет вести боевые действия против то одного, то другого ханства, не приходится удивляться, что представители их населения уделили много внимания в своих трудах именно этой стороне его деятельности. В результате в среднеазиатской историографии сформировался образ Кауфмана – завоевателя Средней Азии, который затем и стал стереотипным для советской историографии.
Первым военным конфликтом, в который пришлось вступить К. П. фон Кауфману вскоре после принятия под управление Туркестанского края, стала война с Бухарским эмиратом. У Мирзы Абдал’Азима Сами, автора «Та’рих-и салатин-и мангитийа» («История мангытских государей»), Кауфман ошибочно назван завоевателем Аулие-Ата и Ташкента ( Мирза Абдал’Азим Сами , 1962, с. 57–58). На самом деле эти города были взяты в 1865 г. М. Г. Черняевым, тогда же ставшим первым военным губернатором Туркестанской области. Однако дальнейшие события историк, в то время являвшийся придворным сановником эмира, излагает достаточно корректно. В отличие от ряда других авторов, Сами подчеркивает мирные намерения Кауфмана, дружественную переписку с эмиром Музаффаром, который и сам поначалу не хотел воевать, но «по подстрекательству и наущению недалеких, фанатичных, злонамеренных и дурно поступающих гулямов» предпринял враждебные действия против России, арестовав послов Кауфмана и начав боевые действия. А во время войны войска эмира, практически не оказывая сопротивления русским войскам, бежали с полей сражений во главе с самим правителем4. Неудивительно, что собственные подданные стали отворачиваться от такого монарха: так, жители Самарканда сами открыли ворота Кауфману, который «посчитал это небесным даром и несомненной помощью [бога]» (Там же, с. 60–62, 70, 80), см. также [ Брежнева , Богданова , 2017, с. 111].
Интересно, что взятие Самарканда, по словам того же Сами, поначалу не вызвало особой тревоги эмира и его окружения. Вероятно, не зная еще о широких полномочиях Кауфмана в области внутренней и внешней политики в Средней Азии, они полагали, что он, захватив город, превысил свои полномочия и вскоре от императора воспоследует приказание вернуть его Бухаре и заключить мир. Именно это в интерпретации историка и обусловило быстрое подписание мира со стороны бухарцев ( Мирза Абдал’Азим Сами , 1962, с. 88–89).
Поражение Бухары и установление над ней российского протектората в 1868 г. вызвало широкий резонанс по всей Средней Азии. Не только бухарские, но и иностранные авторы зафиксировали это событие в своих сочинениях: например, хивинский придворный историк Мухаммад-Риза Агахи в своей хронике «Шахид-и икбал» («Свидетель счастья») упомянул, что бухарскому эмиру пришлось заключить договор с К. П. фон Кауфманом, по которому он должен был платить России «дань», т.е. контрибуцию [ Бартольд , 1964, с. 404].
Кокандские хронисты, по вполне понятным причинам враждебно относившиеся к К. П. фон Кауфману, предлагают собственную интерпретацию российско-бухарского конфликта: якобы не довольствуясь договором, который ранее был заключен с эмиром Музаффаром, он потребовал заключить новый, содержавший более тяжелые условия для Бухары, да еще дал слишком малый срок для их выполнения. Тем самым он нашел повод к войне, во время которой, по сообщениям коканд-ских авторов, проявлял изощренное коварство, с одной стороны, вроде бы соглашаясь на переговоры с эмиром, с другой же – заманивая его войска в ловушки. В результате Кауфман добивается своего, заключив с Бухарой крайне невыгодный для нее договор [ Бейсембиев , 2009, с. 305–306, 446]. Также они приписывают генерал-губернатору милитаристические устремления в виде намерений уже на рубеже 1860–1870-х гг. завоевать и Хиву, и Афганистан, не забыт также и поход 1880 г. в Кульджу [Там же, с. 418–419, 556], на самом деле явившийся предупреждением агрессии империи Цин в регионе.
В сочинении «Тарих-и джадида-йи Ташканд», составленном кокандским автором Мухам-мал-Салих-ходжой Ташканди в 1887 г., упоминается, что Кауфман в войне с Бухарским эмиратом привлекал на службу и представителей населения Центральной Азии, в том числе бывших сановников эмира. Так, например, Искандар-хан Кабули служил эмиру Музаффару, но бежал, узнав, что последний отдал приказ о его аресте, и поступил на службу к туркестанском генерал-губернатору, принял участие в походе на Самарканд, командуя 400 афганцами [Там же, с. 200, 305]. Естественно, такие действия афганского военачальника трактуются историком как измена законному государю, соответственно, Кауфман, принявший его на службу, предстает человеком коварным и беспринципным.
Со временем впечатления от боевых действий и эпохи завоевания в целом стали исчезать, и на смену враждебному осуждению жестокости Кауфмана пришло иное осмысление его решений и конкретных действий. Так, например, младший современник событий, известный таджикский писатель и ученый-просветитель Садриддин Айни в своем произведении «История мангытских эмиров», написанном уже в 1920 г.5, противопоставляет (уже традиционно для бухарской историографии) боевой опыт и решительность Кауфмана легкомыслию и трусости эмира Музаффара, который даже после первых поражений не пожелал выработать никакой стратегии ведения войны ( Айни , 1975, с. 278). И если эмир показан автором как жестокий правитель, грабивший собственных подданных и жестоко расправлявшийся с политическими противниками, то в уста Кауфмана Айни вкладывает, в частности, следующую фразу: «Мы начали свое выступление, намереваясь защитить всех угнетенных», а далее – объяснение о вступлении в Самарканд по просьбе его населения (Там же, с. 279)6. Далее описывается «приветливое» отношение Кауфмана к жителям города, которых он «простил» (Там же, с. 281). При этом весьма характерно, что Айни ни разу не упоминает его по фамилии, предпочитая характеризовать как «главнокомандующего русскими войсками» или «генерал-губернатора»: вероятно, это отражение начала процесса формирования негативного образа К. П. фон Кауфмана в советской историографии, и подчеркивание его положительных качеств и намерений шло бы вразрез с этим подходом. Тем не менее нельзя не отметить, что, по сравнению с непосредственными участниками и свидетелями событий, С. Айни пытается до некоторой степени оправдать действия Кауфмана против Бухарского эмирата, а не объяснять их исключительно его воинственностью, жестокостью и вероломством, как делали его предшественники.
В интерпретации еще одного бухарского автора первой четверти XX в. – эмирского сановника Мирзы Салимбека - К. П. фон Кауфман вообще превратился в настоящего миротворца. По его словам, М. Г. Черняев был смещен с должности туркестанского военного губернатора «за непослушание», выразившееся во враждебности по отношению к Бухаре. Пришедший на его смену Кауфман сразу же заключил с Бухарой мир, который якобы поддерживал на протяжении всего своего правления, лишь однажды введя в эмират российские войска – и то только для того, чтобы помочь эмиру Музаффару подавить мятеж его сына Катта-торе. Зато после его смерти край вновь возглавил Черняев, вскоре повторно смещенный опять же за то, что «осмелился двинуться на Бухару» (Мирза Салимбек, 2009, с. 39, 48, 63–64, 155–156), см. также [ Брежнева , Богданова , 2017, с. 111].
Еще один близкий Салимбеку по статусу бухарский сановник, Мухаммад-Шариф Садр-и Зийа, в своем дневнике, писавшемся уже в 1920–1930-е гг., очень кратко упоминает о факте войны Кауфмана с эмиром Музаффаром и о поражении последнего, но это ему было нужно лишь для того, чтобы подчеркнуть положительные последствия этих событий – строительство в эмирате железной дороги, развитие торговых путей и проч. (Sadr-i Ziya, 2004, р. 190–191).
Весьма широко освещенный российскими современниками поход К. П. фон Кауфмана против Хивы в 1873 г. в местных источниках отражен достаточно скудно. Вышеупомянутый придворный хронист Агахи скончался накануне его событий, в 1872 г., так что едва ли не единственным хивинским сочинением, в котором описаны эти события, является «Шаджара-йи хорезмшахи» («Родословное древо хорезмшахов»), написанное Мухаммадом Юсуфом Баяни, являвшимся своеобразным «преемником» Агахи (см. подробнее [ Муниров , 1961, с. 9–10; Sela , 2002]).
В отличие от авторов, освещавших ход войны Кауфмана против Бухары как следствие «милитаристских устремлений» туркестанского генерал-губернатора или в крайнем случае действий плохих советников бухарского эмира, хивинский историк достаточно объективно упоминает о стремлении Кауфмана установить мирные отношения с Хивой и последовавшем на его предложения отказе хивинского хана Мухаммад-Рахима II прекратить набеги его кочевых подданных на российские владения и захват пленных. Согласно Баяни, решение об освобождении пленных было принято ханом лишь тогда, когда он узнал о приготовлениях к походу, но его действия уже не могли предотвратить похода, поскольку на этот раз уже Кауфман, в свою очередь, отверг ханское предложение [ Sela , 2006, p. 463–464; Ниязматов , 2010, с. 161, 170–171]. Тем не менее, несмотря на неоспоримое превосходство русских войск и, как следствие, наличие возможности захватить все ханство, генерал-губернатор предпочел заключить мир с ханом, о чем сам же направил ему послание. На этот раз адресат согласился на предложение К. П. фон Кауфмана, и мир в результате был заключен [ Брегель , 1961, с. 154–155; Ниязматов , 2010, с. 173; Sela , 2006, p. 464]. Не забыл Баяни описать и рейд генерала Головачева против туркмен-йомудов, совершенный по приказу Кауфмана после их отказа платить контрибуцию [ Sela , 2006, p. 465–466]. В сочинении хивинского автора описаны расправы с туркменским населением, однако вряд ли стоит считать, что автор целенаправленно старался «с гневом» описать «зверства фон Кауфмана», как было принято считать в советской историографии [ Юлдашев , 1962, с. 46]. Думается, для представителя хивинской знати подобного рода карательные акции в отношении кочевников были привычны, поскольку неоднократно предпринимались их же собственными ханами.
Боевые действия К. П. фон Кауфмана против Кокандского ханства, сначала признавшего российской протекторат, но затем восставшего против империи (во главе с Абдурахманом-афтабачи и Насреддином, старшим сыном хана Худояра), конечно же, нашли отражение в целом ряде кокандских исторических источников [ Бейсембиев , 2009, с. 292]. Взятие Коканда Кауфманом в 1876 г. совершенно обоснованно связывается с ликвидацией его государственности, однако, конечно же, подается как результат исключительно воинственных устремлений генерал-губернатора и непосредственно командовавшего российскими войсками генерала М. Д. Скобелева [ Бейсембиев , 2009, с. 424; Сангирова , 2000, с. 24–25]. Антироссийские же действия самих кокандцев, собственно и вызвавшие открытые военные действия русских против них, практически не упоминаются местными историками.
Результатом завоевательной политики К. П. фон Кауфмана стало установление российского протектората над Бухарским эмиратом (1868) и Хивинским ханством (1873), а также включение территории Кокандского ханства в состав Туркестанского края (1876). На смену «завоеванию» пришло «устроение». Это направление деятельности Кауфмана также по-разному освещается среднеазиатскими авторами.
Знаменитый бухарский государственный деятель и просветитель Ахмад Дониш, современник и свидетель завоевания Средней Азии, лично знакомый с К. П. фон Кауфманом (по некоторым сведениям, С. Айни опирался в своей «Истории мангытских эмиров», в том числе и на его рассказы), резко враждебно отреагировав на установление над Бухарой российского протектората (ср.: [ Брежнева , Богданова , 2017, с. 107, 110]), как ни странно, не дал никакой характеристики боевым действиям Кауфмана против эмира. Однако он уделил внимание фактам взаимодействия Музаффара и туркестанского генерал-губернатора уже после признания Бухарой зависимости от Российской империи. Прежде всего он отмечает, насколько поражение заставило эмира бояться генерал-губернатора. Направляя свое посольство в Россию, Музаффар настоятельно требовал, чтобы посол ни в коем случае не поднимал вопрос о возвращении Самарканда и других территорий, отторгнутых от эмирата, зная, что это вызовет недовольство Кауфмана ( Ахмад Дониш , 1960, с. 66)7.
Также А. Дониш приводит несколько примеров пренебрежительного отношения К. П. фон Кауфмана к Бухаре, имевшего целью упрочить свою власть над эмиратом. Одним из болезненных вопросов в российско-бухарских отношениях после 1868 г. стало распределение воды, поскольку после захвата Самарканда в руках русских оказался контроль над р. Зеравшан. В ответ на неоднократные просьбы бухарцев упорядочить систему водопользования между жителями русских и бухарских владений, как писал Дониш, «он [губернатор], обычно, говорил: “Действительно, вода Зе-равшана будет израсходована в Самарканде, так как я распорядился о многих посевах и постройках. Я думал и о воде для Бухары. В свое время я проведу воду из Сыр-Дарьи”». Однако, по мнению автора, подразумевал Кауфман совершенно другое: «Я вас подержу голодными и без воды до тех пор, пока сам не вступлю в царскую резиденцию Бухары» ( Ахмад Дониш , 1967, с. 108–109). Таким образом, в сообщении бухарского ученого отражаются как достоверные сведения (о контроле распределения воды как средства обеспечения мирных отношений с Бухарой), так и подозрения в намерении Кауфмана полностью присоединить эмират к России, которого у туркестанского генерал-губернатора никогда не было.
В знак признания зависимости от Российской империи эмир поручил послу договориться в Петербурге, чтобы его наследника определил император. Однако российский монарх поручил решение этого вопроса Кауфману, который «с поклоном принял [поручение]», но никаких действий не предпринял и даже не написал по этому поводу никакого письма эмиру. Дониш и эти действия Кауфмана трактует как намерение спровоцировать «волнения и смуты» в Бухаре и тем самым укрепить собственный контроль над ней ( Ахмад Дониш , 1960, с. 113; Ахмад Дониш , 1967, с. 104–105, 110)8. Подобные сообщения Дониша дают основание современным исследователям утверждать, что им в его сочинениях «разоблачалась колониальная политика фон Кауфмана» [ Бейсембиев , 2009, с. 308]9.
Автор кокандской хроники «Тарих-и джадида-йи Ташканд» также приводит пример пренебрежения Кауфмана к бухарскому эмиру. Во время похода на Хиву 1873 г. русские войска проходили через бухарские владения, и эмир оказал им поддержку провиантом, водой, вьючными верблюдами, одеждой и проч., надеясь на то, что ему будут возвращены Самарканд и Катта-Курган. Однако Кауфман, давший ему такую надежду, сохранил эти города в составе российских владений [Там же, с. 306–307].
Кокандское ханство, как известно, поначалу признало зависимость от Российской империи, по сути, добровольно, заключив мирный договор в 1868 г. [Там же, с. 550], поэтому, в отличие от Бухары и Хивы, историки Коканда сначала повествуют о мирных и союзнических отношениях между К. П. фон Кауфманом и правителями ханства. При этом, по-видимому, даже после заключения мира кокандские власти не чувствовали себя достаточно уверенно в отношении России и старались использовать любой повод, чтобы убедиться в мирных намерениях Кауфмана. Так, например, в сочинении Муллы Нийаз-Мухаммада Хуканди «Тарих-и Шахрухи» упоминается о том, что Насреддин, старший сын хана Худояра, в 1872 г. направлял к Кауфману в Ташкент посольство по случаю проведения церемонии обрезания Урмана – одного из своих младших братьев [ Бейсембиев , 1987, с. 129, 130; Бейсембиев , 2009, с. 112].
Примечательно, что кокандские историки рассматривают Кауфмана как правителя Ташкента в качестве правопреемника прежних правителей, ранее управлявших этим городом в качестве наместников кокандских ханов [ Бейсембиев , 2009, с. 676]. Вероятно, подобной фикцией они стараются оправдать заключение и поддержание мира с российским администратором, пребывавшим во владениях, ранее отторгнутых у Коканда. При этом, конечно же, это не означает, что они приравнивают туркестанского генерал-губернатора по статусу к прежним градоначальникам: в отношении него в кокандских сочинениях (как и в целом в рамках среднеазиатской политической и историографической традиции) применяется титул «йарим-падшах» [Там же, с. 733].
Признав власть России как своего рода данность, жители Средней Азии со временем стали находить в ней преимущества по сравнению с «ханским» периодом. И период пребывания К. П. фон Кауфмана во главе Туркестанского края рассматривается ими как своеобразный «золотой век». Наиболее ярким примером такого изменения отношения к недавнему «завоевателю» является небольшое поэтическое сочинение на казахском языке, написанное со слов бывшего кокандского сановника Хали-бая его сыном около 1885 г. Долгое время сражавшийся с русскими, под конец жизни он сумел оценить результаты их правления. По его словам, «во время Кауфмана, недавно бывшего, исчезли воры и обман», народ стал благоденствовать, богатеть, лучше одеваться и проч. Упоминает автор сочинения и о просветительской деятельности Кауфмана, отмечая при этом, что, хотя он призывал местных жителей учиться русскому языку и вообще получать российское образование, но вовсе не заставлял их принимать православие (Веселовский, 1894, с. 61–63) [Бейсембиев, 2009, с. 369–370; Трепавлов, 2018, с. 40–41]. По сути, это не просто обоснование и одобрение деятельности К. П. фон Кауфмана, а фактически панегирик ему.
Сановник бухарского эмира Мирза Салимбек, написавший свою «Тарих-и Салими» около 1918 г., отчасти подтверждает слова Хали-бая о том, что в Ташкенте при Кауфмане не стеснялись обычаи местных жителей, что христианство им не навязывалось и мусульманские ученые могли продолжать свои диспуты ( Мирза Салимбек , 2009, с. 51).
Авторы, проживавшие в русской Средней Азии под управлением целого ряда имперских администраторов, также не могли не отметить роли и значения первого начальника Туркестанского края и не сравнивать его с преемниками. Так, Азиз б. Риза Маргинани, автор «Тасниф-и гариб» («Редкое известие»), написанного не ранее 1912 г., констатировал: «Вообще, после Черняева10 и фон Кауфмана не было таких великих йарим-падишахов, как они двое. А в Маргилане лучшими начальниками были Бекчурин, Томич и Баранов. Они хорошо относились к подданным, не брали взяток» [ Бейсембиев , 2009, с. 131–132]. И это не было единичное мнение, поскольку весьма красноречивое высказывание «одного очень умного туземца» приводит в одном из своих писем, датированном 1890 г., российский дипломат и востоковед Н. Ф. Петровский, к слову сказать, сам весьма не жаловавший первого туркестанского генерал-губернатора: «Прежде мы бранили Кауфмана, думали, что в Петербурге есть много его лучше, а как увидели второй раз Черняева, потом Розенбаха, а теперь Вревского, то стали хвалить Кауфмана: видим, что лучше его нет» ( Петровский , 2010, с. 214).
Завершая анализ оценок деятельности К. П. фон Кауфмана среднеазиатскими современниками, можно сделать вывод о том, что их отношение к этому деятелю во многом определялось характером отношений между Российской империей и ее Туркестанским краем с одной стороны и властями и местным населением среднеазиатских ханств с другой. В период вооруженного противостояния практически все авторы исторических сочинений демонстрировали резко негативное отношение к Кауфману, возлагая исключительно на него вину за развязывание войны, обвиняя в жестокости, коварстве и проч. Однако по мере все большей интеграции ханств в политическое, правовое и экономическое пространство Российской империи, укрепление русского влияния в самих ханствах хронисты все больше сосредотачивались не на завоевательном, а на созидательном направлении деятельности первого туркестанского генерал-губернатора и даже его войны с ханствами также старались рассмотреть в контексте последующих позитивных изменений в регионе. А ближе к концу века, сравнивая деятельность первого туркестанского генерал-губернатора с политикой его преемников, жители русской Средней Азии готовы были характеризовать пребывание К. П. фон Кауфмана во главе Туркестанского края и его отношения с ханствами как настоящий «золотой век».
Список литературы Оценки деятельности туркестанского генерал-губернатора К. П. фон Кауфмана среднеазиатскими современниками
- Бартольд В.В. События перед хивинским походом 1873 года по рассказу хивинского историка // Бартольд В.В. Сочинения. Т. II. Ч. 2. М.: Наука, 1964. С. 400-413.
- Бейсембиев Т.К. Кокандская историография. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков. Алматы: Print-S, 2009. 1263 с.
- Бейсембиев Т.К. "Тарих-и Шахрухи" как исторический источник. Алма-Ата: Наука, 1987. 200 с.
- Брегель Ю.Э. Сочинение Баяни "Шаджара-йи хорезмшахи" как источник по истории туркмен // Краткие сообщения института народов Азии. 1961. Вып. 44. С. 125-157.
- Брежнева С.Н., Богданова О.А. Война Бухарского эмирата с Российской империей в воспоминаниях очевидцев // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. История. Политология. 2017. Вып. 4. № 22 (271). С. 106-114. EDN: ZWTHJH