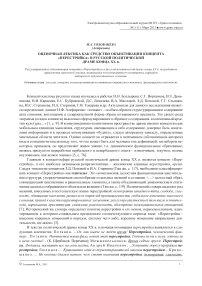Оценочная лексика как средство объективации концепта «перестройка» в русской политической драме конца ХХ в
Автор: Голованева Марина Анатольевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается объективация концепта «Перестройка» в русской политической драме конца ХХ в. посредством привлечения оценочной лексики, являющейся коммуникативно-когнитивным маркером авторского художественного сознания.
Лексема, концепт, коммуникативная-когнитивная стратегия и тактика, драматургический текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14821626
IDR: 14821626
Текст научной статьи Оценочная лексика как средство объективации концепта «перестройка» в русской политической драме конца ХХ в
Концептосистема русского языка изучалась в работах Н.Н. Болдырева, С.Г. Воркачева, В.З. Демь-янкова, В.И. Карасика, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева, В.А. Масловой, З.Д. Поповой, Г.Г. Слышки-на, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, Г.В. Токарева и др. Актуальным для данного исследования является определение, данное Н.Ф. Алефиренко: «концепт – особым образом структурированное содержание акта сознания, воплощение в содержательной форме образа познаваемого предмета. Это своего рода энграмма (осадок в памяти) мысленно сформулированного образного содержания, коллективный архетип культуры…» [1, с. 9]. В коммуникативно-когнитивном пространстве драмы именно концептам как мобильным единицам мышления, структурам, вмещающим в себя содержание, доверено быть носителями информации и в процессе коммуникации «будить», следуя авторскому замыслу, определенные ментальные области читателя. Однако концепт не отражается в неизменном (обозначенном автором) виде в сознании читателя ввиду того, что не может быть для человека «ни дефиницией, ни набором некоторых признаков, он представляет живое знание, т.е. динамическое функциональное образование, являясь продуктом переработки вербального и невербального опыта – изменчивым, текучим, подчас неуловимым, как всякое знание» [5, с. 76].
Главным в концептосфере русской политической драмы конца ХХ в. является концепт «Перестройка», а его наиболее активными репрезентантами – лексические единицы перестройка , время. Следуя типологии концептов З.Д. Поповой и И.А. Стернина (Там же, с. 117), необходимо классифицировать концепт «Перестройка» как гештальт . Это «комплексная, целостная функциональная мыслительная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании <…> целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные элементы, а также объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого объекта или явления» (Там же, с. 119). Политический словарь выделяет ряд явлений, внесенных в постсоветскую жизнь перестройкой: демократия западного типа, свобода, гласность, обнищание населения, развал всех отраслей промышленности, глобальное изменение массового сознания, приход к власти коррумпированных элементов, разгул преступности (в том числе и этнической), наркомания, проституция, снижение рождаемости, обострение межнациональных отношений [7]; Исторический же словарь определяет понятие перестройки в его новом, переосмысленном, адаптированном к историко-социальным прецедентам соответствующего периода виде: «Перестройка – внесение коренных изменений в порядок, систему чего-либо, коренное изменение направления деятельности, взглядов» [3].
В текстах политической драмы конца ХХ в. ключевая номинация перестройка выявляется в следующих контекстах: Потанин. …Ох, как нынче не ждет время! Перестройка, человеческий фактор… Потанин. Начинается новая фаза, новый этап перестройки. Готовы ли вы к нему, готова ли к нему газета?... (К. Щербаков. Перемена); Можжевельников. Время сейчас другое. Перестройка, Людмила, поставит все на свои места; Андрей Иванович. …Уступите дорогу прорабам перестройки; Людмила Кривошапко один из первооткрывателей законов перестройки… Криво-шапко. … Но возопил благим матом: чего стоит нынешняя перестройка, демократия, гласность, святая справедливость, если вместе со мной, вместе с разноперой гнилью вынужден отбывать срок наказания Захар Петрович?!! … (Н. Мирошниченко. Фанатик) и др.
Особое место среди языковых средств, участвующих в объективации концепта «Перестройка», занимает оценочная лексика, определяющая человека (соответственно занимаемой им общественно-политической позиции) и социум (с точки зрения основных политических и нравственных векторов). Характеристика данного пласта лексики в квантитативном отношении специфична: 1024 примера (82% оценочной лексики) указывают на коммуникативно-когнитивную функцию слов, сочетаний, слов-компонентов полупредикативных и предикативных конструкций. Это коммуникативно-когнитивные маркеры авторского художественного отношения к изображаемой действительности, опосредованного коммуникативно-когнитивными ролями персонажей.
Оценка есть компонент коннотации. В отличие от эмоциональности, которая свойственна как говорящему, так и слушающему, оценочность может выражать только говорящий [8, с. 259]. Слияние личностной и политической оценок в отношении одного действующего лица в большой степени характерно для политической драмы. При этом подобная оценка принимает статус обобщенной, коммуникативно релевантной. Негативные стороны перестроечной реальности отразились в оценочной лексике, входящей в:
-
1) предикативные конструкции : Трофимов. … страна необразованная , народ безнравственный , притом скука… (А. Хорт. Дача специального назначения);
-
2) полупредикативные конструкции : Вепрев. …Для этой работы есть Рыкуновы… Ворующие у государства , ненавидящие все живое и честное … (Р. Солнцев. Статья);
-
3) адъективы в определительной функции : Голос Виктора. …Истекло ваше время. Заменят вас грамотные, знающие люди , вы устарели давно. …(Г. Бакланов. Я и мы);
-
4) фразеологические единицы в роли предикативного центра предложения : Можжевельников. Понимаю! Тебе и всем тем, у кого «рыльце в пушку» , это не выгодно.
Отрицательная оценка наблюдаетсяв примерах, включающих отмеченные конструкции: Куренной. …Нет врагов, милые! Есть просто люди… ленивые … равнодушные … всякие… (Р. Солнцев. Статья); Нина. …а у него в приемной… эдакая вальяжная, вся в кулонах, кольцах, брелоках … с каким самодовольством, высокомерием, сознанием своего превосходства она швырнула в меня: «Вы заблуждаетесь, гражданка, в нашем государстве нет осужденных за политику…» ; Нина. Но ведь это он! Он вовлек… Он сагитировал. Он давал тебе книги. Ты же… такой поддающийся . Что стоило тебя? Когда мы впервые встретились… (А. Сударев. Дом для свиданий); Яворская (с улыбкой.) Кто вас этому научил? Л ю д м и л а. Я и сама птичка стреляная . Яворская. Вы «птичка» с подрезанными крылышками . А еще вернее: вы птичка, посаженная в клетку . И взлететь вы не можете. И попорхать свободно вам не позволяют ; Людмила. Вы кого собираетесь раскусить: меня или Варьку? Если Варьку, то поберегите зубки. Орешек с камушком (Н. Мирошниченко. Фанатик).
Положительная оценка качеств и деятельности персонажей выявлена в небольшом количестве драматургических контекстов, что свидетельствует об общем негативном восприятии авторским коммуникативно-когнитивным сознанием реалий исследуемого исторического периода. Оценочная лексика входит в синтаксические конструкции, отмеченные выше. Случаев с конструкцией, включающей фразеологический оборот, не выявлено. Приведем примеры: Глеб. …В этом смысле профессор… (Пауза) Умный, обаятельный, талантливый человек и завидная пробивная сила ! (Д. Меркулов. Честь и место); Бездомных. …он человек знающий, принципиальный . Из рабочих . … ; Вепрев. …Нет, Харчев честный человек . Только беспринципный ; Монтредон. Он очень хороший … честный человек … ; Вепрев. Спасибо. Она честный человек ; …Я думаю, новые руководители зреют: … терпеливые психологи … (Р. Солнцев. Статья); Полунин. …Мне видится, что эта книга будет о нашем современнике, остро чувствующем необходимость перемен, готовом идти на риск (Э. Бобров. Личное мнение).
Политические, моральные, личностные качества, характеризующие конкретного персонажа, получают в художественном произведении смысловое приращение. Происходит генерализация смыслов (обобщение, логический переход от частного к общему, подчинение частных явлений общему принципу [2, с. 172]). Оценка героя, выраженная посредством абстрактных субстантивов, призвана воплощать коммуникативно-когнитивный замысел автора: переносить свойство из области принадлежности конкретному персонажу на персонажный тип, т.е. обобщать, проецируя за узкое эксплицитное выражение расширяющиеся имплицитные смыслы. Так, в последующих примерах отмечаемые качества героев толкуются реципиентом как типичные, преобладающие для социумной реализации индивида в условиях перестройки: Портнов. … Что касается Виктора, он, конечно, за свое разгильдяйство, за моральное соучастие …будет отвечать (Г. Бакланов. Я и мы); Артелин. … ну и всегда попрекал тебя конформизмом . …но есть, я понял, вещи более значительные и высокие. Твоя отчаянная преданность … ; Кочнев. …это расценили как пособничество (А. Хазанов «Холодный дом»); Зябликова. … Бесхребетность … беспринципность … всеядность … Нельзя быть для всех добреньким! (С. Михалков. Кавардак); Сирый. … «Создаешь себе ложный авторитет , идешь за народом. Хвостизм !» ; Голощапов (Выборнову, спокойно). Да пошел ты… К такой-то матери со всей своей жалостью! Слюнтяйством ! Ханжеством ! (А. Мишарин. Серебряная свадьба).
Кроме того, отвлеченные субстантивы с отрицательным оценочным вектором становятся обозначением качеств, присущих российскому перестроечному обществу в целом, что свидетельствует о включенности в ассоциативное поле концепта «Перестройка» негативных ассоциатов в преобладающем количестве. Коммуникативно-когнитивная цель автора в данном случае – развенчание мифов о прогрессивной, преобразующей социально-политической роли перестройки, реализация коммуникативной стратегии дискредитации перестроечного общества. Большая популярность в это время драм о сталинской эпохе объясняется необходимостью осмысления причин деградации советского общества конца ХХ в., а также возможностью прямой проекции коммуникативно-когнитивных отражений большей части социумных явлений раннего социализма на подобные явления в период развала строя. Например: Ленин. … Много шума , много трескотни, истерик, паники (Г. Соловский. Вожди); Киров. … называя тебя Лениным, мы ведь в самом деле имели в виду Ленина, который никогда бы не допустил такую вакханалию лести и угодничества вокруг себя… (Там же); Иосиф. …Пиши. Ленину. Железнодорожный транспорт по всей линии фактически разрушен. Поезд движется недопустимо медленно. Всюду вакханалия , спекуляция . … Иосиф . Полное перерождение.Смыкание мещанства с обскурантизмом и клерикализмом (О. Кучкина. Иосиф и Надежда); Сталин. …С утра до ночи – кляузы, обман, интриги, козни, происки, наветы, а анонимки – даже в День Победы! … (В. Коркия. Черный человек); Нина. … «В день торжественного пуска первой очереди будет греметь оркестр, звучать приветственные речи, а мы, слушая все это, вспомним, сколько было неразберихи, разгильдяйства и безответственности … ; Шофер. Да кто ж ему такое разрешит! Самоуправство это (Э. Бобров. Личное мнение).
В текстах преобладают субстантивы и отглагольные субстантивы узкой лексико-семантической группы, обозначающие социально-политический признак человека. При этом отрицательная оценоч-ность и часто экспрессивность являются их неотъемлемыми признаками. Частые обращения к данной группе объясняется активизацией пласта существительных в конце ХХ в. («специфика эпохи»). Так, В.Н. Шапошников отмечает, что из других языков «приходят в основном – и раньше других слов – существительные. Их больше всего…» [9, с. 74]. Ученый акцентирует внимание на образовании глаголов, прилагательных и других существительных от существительных-новаций (иноязычных, перешедших в русский из других языков), что подтверждает их ведущую роль в лексике в данный исторический период. При этом активизируются и собственные субстантивы как самая востребованная морфологическая группа. Как показывает исследование, наиболее многочисленна группа субстантивов (в том числе отглагольных), адъективов и глаголов (64%). Приведем примеры отглагольных субстантивов: Русаков . … только я союзу кумовьев и стукачей не единомышленник (В. Раздольский. Прости нас, мачеха
Россия); Будьте беспощадны к паникерам, болтунам и предателям (Г. Соловский. Вожди); Киров. Не могли даже предположить, что ты превратишься из первого среди равных в обожествленного диктатора , не терпящего даже малейшего неповиновения себе (Г. Соловский. Вожди); Новацкий. Вы-то, Семен Семенович, пьянь безобидная . А Лобзик – это вас, Игорь Иванович, мы любовно называли – Лобзик… Вы – пьянь агрессивная . Мнящая о себе (В. Левашов. ЧМО); Ермаков. Да бросьте вы! Никто его ни за что не брал. Напыщенный болтун , а опыта жизни – ни на вот… (В. Губарев. Последний посетитель); Сталин. …Всех сразу ликвидировал?! Берия. Почти… Сталин. Оставил на развод, перестраховщик ! (В. Коркия. Черный человек); Андрей. …убрать из бригады всех лодырей и прогульщиков . … (Э. Бобров. Личное мнение); Старик. Ерунда… Но тип он страшный: сутяга, стукач и анонимщик , и, как говорят в Одессе, «будьте уверочки» – он своего добьется – жить нам не даст (А. Козак. Веревка).
Многочисленность субстантивов с отрицательной оценочной семантикой как «знаков эпохи» [9, с. 108] в драматургическом тексте объясняется коммуникативными интенциями автора отрицательной классификации многих социально-нравственных и нравственно-политических явлений, повлиявших на ухудшение жизни в предперестроечный и перестроечный периоды. Языковая эпоха отразила концентрацию определительно-оценочных элементов, выраженных в основном существительными, а также существительными и согласованными с ними прилагательными. Такие языковые меты становятся концептуальными, функционируют в самых разных коммуникативных сферах. Очевидно, что режим речевой практики персонажей включает гораздо больше подобных единиц, чем зафиксировано в книгах В.И. Максимова [4] и В.Н. Шапошникова [9], что обусловлено их метафоричностью, художественностью. Так, данные исследователи отметили только слова наркоман, проститутка, демагог, антисоветчик, рецидивист, бюрократ, конформист . Приведем примеры: Зускин. … Ты мог прекратить репетицию, потому что в театр явился маленький честолюбец , поэт-комиссар ; Зускин (убежденно). Михоэлса они не убили, казнить талант невозможно.Убили, Бог им судья, злопамятного, двуличного честолюбца, эгоиста … (А. Борщаговский. Король и Шут); Ни одного иуды без доноса! (В. Коркия «Черный человек…»); Северцев. … Со всякой публикой иметь дело приходится. С негодяями в том числе. …(К. Щербаков «Случай из газетной практики»); Мария. …А наркоманов и проституток и у нас хватает, можно профсоюз создавать… (В. Губарев. Дача Сталина); Андрей Иванович. Сколько трусов, захребетников, сторонних наблюдателей с партбилетом в кармане мы оправдали за счет Сталина, Хрущева, Брежнева! ...» ; Кудреватых. … Нет, участь трусливого захребетника не по мне… ; Кудреватых. … Первого следователя сменили на более деликатного, но чудовищного формалиста . … Затем формалиста поменяли на верткого, скользкого, до отвращения любезного демагога . …Ты же, вертлявый искуситель , считай, до третьего колена родословную мою изучил! Мытарства мои крокодильими слезами оплакивал! (Н. Мирошниченко. Фанатик).
Отрицательная оценка может быть доведена в политической драме до определенного предела. Преследование автором коммуникативно-когнитивных целей, реализация речевых стратегий (в частности, риторических стратегий привлечения внимания и драматизации, прагматической формирования эмоционального настроя ) требует речевой тактики эпатажа. Так, специфику политической драматургии данного периода составляет наличие политической инвективы, которую мы делим на политическое ругательство и обсценную лексику в политическом контексте .
Политическое ругательство включает в себя экспрессивные политические выражения, не переходящие грани ругательства в общем смысле, но в контексте являющиеся политическими ругательствами: ГБ (грозя пистолетом). Что? В карцер захотела? Шпионка ! Уклонистка ! Эсеровка ! ; ГБ. (размахивая пистолетом). Я тебе покажу, как свободу любить! Ты у меня лес повалишь! Космополит ! Бухаринец ! Троцкистское отребье ! … За сколько сребреников продал родину, иуда ? Наймит империализма ! Двурушник ! … Враг народа ! … (Юноше.) А ну-ка, вредитель, подкулачник , тащи его на плитку! (А. Козак. Веревка); Вепрев. …Думали-думали, как меня взять за хобот, – придумали?! Вы еще пожалеете! Меньшевик ! (Уходя.) Да меня в обиду не даст мой коллектив! Парторганизация! (Р. Солнцев. Статья); Сталин. Типичный ренегат (С. Алешин. Со свиданьицем …).
Обсценная лексика в политическом контексте является прямой инвективой, преломленной политической тематикой высказывания говорящего. Например: Андрей. … Это было бы по законам мрази ! А я – гражданин великой страны. И меня должен защищать закон великой страны! (В. Левашов. ЧМО); Актриса. Его мерзопаковство ушли обедать. … ; ГБ . Я тебя быстро разговорю, бешеный пес ! (А. Козак. Веревка); Вепрев . … Шмакодявки ! (Р. Солнцев. Статья); Шайкина. … Ой, мерзавец , а еще партийный ! (В. Котенко. Железный занавес); Гронина. … Всех вас за это к стенке надо!!! Поганое ежовское отродье ! … (А. Ставицкий. Трагический поединок); Устинья Карпов-на. Вот тебе! Бес ты! Поганец ! Чертово семя ! (Начинает топтать портрет Выборнова.) (А. Мишарин. Серебряная свадьба); Косторезов. … в такое время, на такой должности – подонка держать! (К. Щербаков. Случай из газетной практики).
Положительная оценка взглядов и деятельности в форме субстантивов или субстантивно-адъективных сочетаний встречается в драматургическом тексте данного периода почти в четыре раза реже. Авторские коммуникативно-когнитивные стратегии дискредитации современной политики и драматизации являются сдерживающим фактором, который при логичном противопоставлении отрицательного положительному не позволяет расширять зону положительного. Имеющееся пространство положительной оценки включает в себя такие элементы, в которых художественный закон сгущения, концентрации действует в полной мере: в приведенных примерах оценка имеет превосходную степень. Примеры: Вепрев. «Выпил и подумал: господи, а ведь ты был нашей совестью !..» ; Савостин. …Я думаю, новые руководители зреют: … с огромной верой во все лучшее … (Р. Солнцев. Статья); Кудреватых. …Он у нас, конечно, народ-герой ! Народ-труженик ! Народ-терпимец ! Чем же мы, правящая, ведущая и направляющая партия, ему платим? ; Людмила. Его по-разному обзывали. Кто христосиком , кто фанатиком , кто небожителем . … ; Андрей Иванович. А как вас встретил Кудреватых? Яворская. Как все великомученики за истину – презрительно… (Н. Мирошниченко. Фанатик); Шорохова. … Явился этот правдоискатель … (К. Щербаков. Случай из газетной практики).
Отдельно следует сказать о таких фрагментах текста, в которых оценка взглядам и действиям дается в ироническом ключе, однако является полноценным отражением процессов, идущих в обществе, т.к. лексико-семантические средства репрезентации концепта «Перестройка» остаются теми же: Актриса. Мы спекулянты, рвачи и будем раздевать трудовой народ – вот кто мы такие… (А. Козак. Веревка); Артелин. … Я человек гордый , заносчивый , склонный преувеличивать свои убеждения … (А. Хазанов «Холодный дом»); Михоэлс. А я карьерист ! Честолюбец ! Выскочка ! И конечно, тиран , диктатор ! (А. Борщаговский. Король и Шут); Яворская. … Здесь записала тех, с кем я встречалась после внимательнейшего ознакомления с делом Кудреватых – «вымогателя, рвача, взяточни-ка» … (Н. Мирошниченко. Фанатик).
В пласт оценочной лексики входит также глагол (с примыкающими элементами предикативных конструкций). Оценка взглядов и действий в подобной форме может даваться как одному персонажу, так и обществу в целом. В обоих случаях такие лексические маркеры служат объективации концепта «Перестройка», становясь когнитивными ассоциатами. Приведем примеры оценки действий одного человека: Людмила. …Кривошапко один из первооткрывателей законов перестройки. Он, мол, не воровал, а получал законные проценты за смекалку …; Кривцов . … Я только не изворачивался, демагогию не разводил. Не врал… как все (К. Щербаков. Случай из газетной практики). Примеры оценки сферы действия всего социума на предперестроечном и перестроечном этапах: Плюсов . …Я умер потому, что любая живая мысль давится в зародыше, все продается и покупается (В. Котенко. Железный занавес); Сирый. … «Ах, люди добрые, чего делается! Отсюда сыплется, там воруют, здесь приписывают… Там сгноят… Здесь пропьют!»; Сирый. … Ведь целые учреждения с ведомствами под золотым дождем жируют! Да еще мало – сами дырки просверливают, чтобы побогаче текло! (А. Мишарин. Серебряная свадьба); Кривошапко. … Он действительно чем-то был похож на небожителя. У нас особняки, дачи, машины. Мы как сыр в масле катаемся, с жиру бесим- ся, а он с женой в двухкомнатной квартирке; Кудреватых. Кампанейски клялись. Потом рабски трепетали перед очередными клятвоотступниками. …; Кудреватых. … Мы обречены стадно выкрикивать его лозунги. Слепо, бездумно шарахаться из одной крайности в другую… Он всесилен! …; Кудреватых. А кому нужна поруганная жизнь? Кому?! У меня отняли все: честь, свободу, доверие людей. Как смыть клевету?; Яворская. …Человек был оклеветан. Лишен личной чести, гражданского достоинства. Нравственное надругательство длилось почти два года… (Н. Мирошниченко. Фанатик).
Характеристика историко-политической эпохи в целом (т.е. репрезентация концепта «Перестройка») производится в драматургическом тексте также с помощью субстантивов. Так, доперестроечная действительность отражена в примерах: Кудреватых. …нам не удалось создать общество без тюрем и режимных колоний … ; Кудреватых. … В какой угол мы загнали социальное равенство ? Вместо общества равных прав и возможностей граждан мы слепили многослойный пирог наследственных привилегий . Мы предали главный смысл, главную цель нашей революции – духовно-нравственное совершенствование человека (Н. Мирошниченко. Фанатик); Антропов. … Как мы дожили до наглого чиновного всесилия , до мздоимства, пронизавшего повседневность, до разветвленной системы распределения благ с черного хода ? … ; Северцев. … Травля неугодных, подбор кадров по принципу личной преданности, шельмование в качестве метода профессиональной полемики, попытки превратить науку в свою личную вотчину, где с полной бесконтрольностью можно делать все, что удобно и выгодно … (К. Щербаков. Случай из газетной практики). Перестроечный этап с «нечеловеческим лицом» и художественной концентрацией пороков отражен в следующих драматургических фрагментах: Северцев . …Видя, как в Институте гуманитарных проблем все прочнее укореняются круговая порука, кумовство, протекционизм , Василенко боролся против этого …; Северцев . Прямой шантаж – это то, что делаете сейчас вы, Янина Михайловна… ; Кременцов . … Газета оказывалась неугодна, не попадала в принятый льстивый, стыдно восторженный тон . … ; Потанин. Я не могу уступить этому безответственному авантюризму и проигрывать газету! … И буду бороться!… ; Андреев. … Кто занял бескомпромиссную и последовательную позицию в обсуждении проблем школьной реформы? Кто, наконец, регулярно писал об очковтирательстве , бе-зобразияхв капитальном строительстве , о консервативных , застойных явлениях в управлении экономикой ? ; Третий. … Все опять – юбилейно , седовласо и неподвижно (К. Щербаков. Случай из газетной практики).
Особый период – сталинскую эпоху – многие авторы выбирают в качестве прецедентного политического этапа, проецируя его на современный исторический отрезок для проведения аналогий. Оценка сталинской эпохи содержится в немногочисленных, но показательных контекстах. При этом оценочная лексика избирается того же семантического плана, что и при определении позднего советского и постсоветского периода: Киров. …мы разрушили наше царство не ради новой империи, нового Рима , а ради создания нового общества… (Г. Соловский. Вожди); Моногамов. …Удивительно, как люди быстро забывают кошмары тоталитаризма … (В. Аксенов. Цапля); Сударев. … только и ждущий со дня на день, чтобы его растер в кашицу державный каблук ? Бобров. … На две вещи мы щедры на святой Руси до самозабвения: на бумагомаранье да на скорую расправу , счета не ведем… (Ю. Эдлис. Тройка).
Лексемы-концепторы гештальта «Перестройка» могут составлять различные языковые средства, из которых наиболее ярким является метафора (в том числе развернутая), широко представленная в политическом драматургическом тексте конца ХХ в.: Нина. Когда я тебя полюбила, ты был… как чистый белый листок. Ты был… ангел. Ангел! А он пришел… и все кувырком. Шесть лет… Шесть лет, вырванных из твоей… из моей жизни… (А. Сударев. Дом для свиданий); Кудреватых. … Мое имя в вашем шулерском пасьянсе, видимо, должно сыграть какую-то роль (Н. Мирошниченко. Фанатик); Нина. …А это высокомерное отношение к Западу? К этому погрязшему в житейской суете, в погоне за материальным благополучием, обмещанившемуся Западу. Святая Русь выше сытос- ти. Нам ни к чему все эти… низменные излишества. Нам нужна и-де-я. Со-бор-ность…(А. Сударев. Дом для свиданий); Сталин. …Я – Светоч, Вождь, Хозяин, Номер Первый!... (В. Коркия. Черный человек).
Подводя итоги, можно констатировать, что регулярное использование оценочной лексики в политической драме конца ХХ в. свидетельствует о ее роли коммуникативно-когнитивного маркера авторского отношения к изображаемой действительности, опосредованного коммуникативно-когнитивными ролями персонажей. Оценке подвергаются индивидуум, общество и конкретная историко-политическая эпоха (перестройка). Оценочная лексика может использоваться самостоятельно или входить в предикативные и полупредикативные конструкции, выполняя определительную функцию. К оценке явлений могут привлекаться и фразеологические единицы. Устойчивые морфологические лидеры в процедуре создания оценки – субстантив, адъектив, глагол. При эксплуатации оценочной лексики автор реализует коммуникативно-когнитивные стратегии дискредитации современного общества, драматизации, привлечения внимания, формирования эмоционального настроя . Отрицательная оценка явно преобладает над положительной, что свидетельствует об интенции эксплицитного выражения негативного отношения к современной автору объективной реальности (социально-историческому контексту) и выделения семы ‘ухудшение’ как основного когнитивного смысла в концепте «Перестройка».
Список литературы Оценочная лексика как средство объективации концепта «перестройка» в русской политической драме конца ХХ в
- Алефиренко Н.Ф. «Живое» слово: Проблемы функциональной лексикологии: монография. М: Изд-ва «Флинта», «Наука», 2009.
- Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов: более 25 тысяч слов и словосочетаний. М.: Изд-во «Мартин», 2004.
- Исторический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_his/perestrojka-4938.html.
- Максимов В.И., Буре Н.А., Вакулова Е.Н. Словарь перестройки (1985 -1992). СПб.: Изд-во «Златоуст», 1992.
- Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие. 3-е изд., испр. М.: Изд-ва «Флинта», «Наука», 2007.
- Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: Изд-во «АСТ: Восток-Запад», 2007.
- Политический словарь. URL: http://mirslovarei.com/content_pol/PERESTROJKA-683.html.
- Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 2008.
- Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языковом отображении. 3-е изд. М.: Кн. дом «ЛИБ-РОКОМ», 2010.