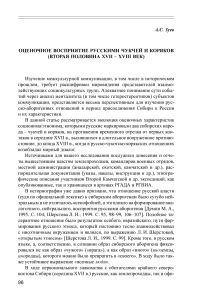Оценочное восприятие русскими чукчей и коряков (вторая половина XVII - XVIII век)
Автор: Зуев А.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521303
IDR: 14521303
Текст статьи Оценочное восприятие русскими чукчей и коряков (вторая половина XVII - XVIII век)
Изучение межкультурной коммуникации, в том числе в историческом прошлом, требует расшифровки мировидения представителей взаимодействующих социокультурных групп. Адекватное понимание сути событий через анализ менталитета (в том числе гетеростереотипов) субъектов коммуникации, представляется весьма перспективным для изучения русско-аборигенных отношений в период присоединения Сибири к России и их характеристики.
В данной статье рассматривается эволюция оценочных характеристик соционима/этнонима, которыми русские маркировали два сибирских народа – чукчей и коряков, на протяжении временного отрезка от первых кон-таков в середине XVII в., вылившихся в длительное вооруженное противостояние, до конца XVIII в., когда в русско-чукотско-корякских отношениях возобладал мирный диалог.
Источниками для нашего исследования послужили донесения и отчеты вышестоящим властям землепроходцев, командиров военных отрядов, местной администрации (анадырской, охотской, камчатской и др.), распорядительная документация (указы, наказы, инструкции и др.), этнографические описания участников Второй Камчатской и др. экспедиций, как опубликованные, так и хранящиеся в архивах РГАДА и РГВИА.
В историографии уже давно признано, что отношение русской власти (судя по официальной лексике) к сибирским аборигенам было сугубо нейтральным и не отличалось ксенофобией, а это влияло на формирование аналогичного, нейтрального, восприятия русскими аборигенов [Демин М. А., 1995. С. 104; Шерстова Л. И., 1999. С. 95, 98–99, 106–107]. Подобное та-лерантное отношение было результатом особого, евразийского, пути формирования русского этноса, который постоянно тесно взаимодействовал с иноэтничным окружением и являлся, по выражению Л. И. Шерстовой, «открытым этносом» [Шерстова Л. И., 1999. С. 99]. Кроме того, в русском языке, а, соответственно, в сознании образ сибирского аборигена фиксировался не как образ «чужого» («врага»), а как образ «иного» ( ино земцы, ино родцы), которого можно было превратить в «своего». В ходу было также устойчивое выражение «ясачные люди ».
В ходе первоначального знакомства с обитателями крайнего северо-востока Сибири (середина XVII в.) русские, как землепроходцы, так и офи- циальные государственные органы, обозначали соционимом «иноземцы» или более общим наименованием «люди», изредка – «народ», «мужики. Собственно коряки и чукчи именовались соответствующими этнонимами («коряки», «чюхчи», «иноземцы коряцкие люди», «чухочьи люди», «люди чухчи», «чюхчи мужики»; коряков, проживавших на Камчатке, называли, как и ительменов, «камчадалы»), которые в случае необходимости получали дополнительную «окраску»: политическую («неясашные люди чюкчи», «неясачные иноземцы чюхчи», «немирные коряцкие люди», «неприятельские люди», «неприятельские иноземцы», «воровские мужики») или социальную («лучший коряк», «лучший мужик», «лучшие люди», «лутчие иноземцы», «улусные люди»).
С начала XVIII в., когда русские ближе познакомились с коряками и чукчами, соционимы и этнонимы стали дополняться их привязкой к определенной территории и указанием на хозяйственный образ жизни. Сведения уже нередко сопровождались разной по объему (в зависимости от характера документа) информацией о хозяйстве, быте, военном деле, облике указанных народов (см. публикации документов: [ДАИ, 1851, 1857, 1862, 1867; Открытия русских землепроходцев, 1951; Памятники истории Сибири, 1882, 1885; Русская тихоокеанская эпопея, 1979; Русские мореходы, 1952; и др.]).
Особо подчеркнем, что образы коряков и чукчей, фиксируемые русскими казаками и администрацией, за редчайшим исключением, были лишены какой-либо эмоциональной нагрузки, а следовательно оценочного (позитивного или негативного) восприятия. И это при том, что отношения русских с обитателями крайнего северо-востока Сибири во второй половине XVII – начале XVIII в. носили преимущественно конфликтный характер, сопровождались многочисленными вооруженными столкновениями [Зуев А. С., 2002]. Лишь изредка, когда военные действия достигали ожесточенности, в донесениях местного начальства прорывались негативные эмоции в адрес «изменников»: «…воры… видя их злой нрав и непокорство» (анадырский приказчик С. Ильиных, 1709 г. [Памятники сибирской истории, 1885. С. 513]).
Апогей боевых действий на Чукотке и в Корякии пришелся на вторую половину 1740-х гг.; донесения с мест о многочисленных вооруженных столкновениях русских с коряками и чукчами и проч. привели к тому, что к концу 1740-х гг. у разных инстанций, начиная с местного уровня и заканчивая правительством, сформировался взгляд на коряков и чукчей как на «закоренелых злодеев».
В указах конца 1740-х – начала 1750-х гг. в Анадырск и Охотск Иркутская провинциальная канцелярия неоднократно напоминала, что «изменникам» «в их верности твердой надежды нет»; а, наоборот, следует «всеми силами стараться… всех побить и в конец раззорить без всякого сожаления», «не приемля того, что они будут якобы склонятца в подданство», поскольку только суровые меры в отношении «изменников» могут способствовать установлению мира, «от такого военного страху и другие ясашныя и неясашныя народы от бунту и измены иметь будут воздержание и от время до время верноподданными быть» [РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 528, ч. 2, д. 1, л. 44об.–45об., 98, 102–103; ф. 248, оп. 113, д. 1552, л. 341об.–343об., 421–421об.; и др.]. В свою очередь охотский и анадырский командиры соответствующим образом наставляли командиров карательных отрядов.
В это же время в представлении русской стороны стал формироваться образ коряков и особенно чукчей как самоотверженных и храбрых воинов. Так, допрошенные в 1741 г. в Селенгинске рекруты, прибывшие из Анадырского и других северо-восточных острогов, показали о чукчах: «И приходят они в осень из Шалацкого носу на устье реки Ковымы до Ниж-нековымскому острогу, також и на другие реки многолюдством, и в лутчих местах промышляют всякаго зверя, а воспретить за малолюдством рус-ких никто не могут и всегда от них в страхе , и где сойдутца с рускими и с ясашными, то оных побивают и в полон берут, а к Анадырскому острогу приходят и по реке Анадыру и чинят тож» [Колониальная политика, 1935. С. 162] (курсив мой. – А. З. ). О чукчах и коряках как о свободолюбивых, отважных, умелых и жестоких воинах писал Г. Ф. Миллер [Элерт А. Х., 1999. С. 94, 95, 97].
Страсть чукчей к войне и воинским упражнениям («всегда обращаются в науках к сражению») отмечали казаки, наблюдавшие их повседневную жизнь (Кошкаров, Б. Кузнецкий, 1756 [РГАДА, ф. 199, оп. 2, № 528, ч. 1, д. 17, л. 19об.; д. 18, л. 9об.]). В известном сборнике «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым», составленном в середине XVIII в., присутствуют песня «Михайла Скопин» и былина «Добрыня чудь покорил», в которых упоминаются «чюкши» и коряки-«алюторы». Причем они перечисляются среди самых опасных врагов Киевской Руси времен князя Владимира и Московского государства эпохи Смуты [Древние российские стихотворения, 1977. С. 106–110, 148].
Понятно, что подобной угрозы ни чукчи, ни коряки-алюторы Руси-России никогда не создавали. Соответствующие вставки в данные произведения появились несомненно как реакция на те драматические события, которые происходили на крайнем северо-востоке Сибири в первой половине XVIII в. Впечатление русских от опасности, исходившей от чукчей и алюторов, было настолько сильным, что даже зафиксировалось в фольклоре, а значит и в сознании русских. Много позже, в конце XIX в., В. Г. Богораз записал на Колыме казачью песню, к которой есть следующая фраза: «этот чукотской народ, не клади им пальца в рот» [Областной словарь, 1901. С. 303]. Ее, вероятно, надо понимать в том смысле, что с чукчами нужно держаться настороже и ожидать от них любых неприятностей.
Пожалуй квинтэссенцией негативного восприятия чукчей стал вывод анадырского командира Ф. Х. Плениснера, сделанный им в 1763 г. по итогам личного с ними общения: «изо всех в Сибири обретающихся ино-верцов такого скаредного народу не видано, и по их лехкомысленности больше страстями своими и лютостию превосходят всякой скотины или зверя, ибо все то, что у регулярного и нравоученого народу почитаетца за скверное и безчестное, как например воровство и протчие непотребности, чинят, но они то почитают за самую похвалу, что сын отца или брат брата до смерти убивают, и то между собою поставляют ни во что… никаковой в них к постоянству надежды им, Плениснером, не предусмотрено» [РГА-ДА, ф. 199, оп. 2, № 528, ч. 1, д. 10, л. 10].
Во второй половине XVIII в., по мере мирного урегулирования русско-чукотско-корякских отношений, в официальной документации в отношении чукчей и коряков начинает возобладать вновь бесстрастная и нейтральная лексика. В отношении коряков, которые приняли подданство, даже используют прилагательное «верные». Но в этнографических описаниях, которые становятся более объемыми и добротными, по-прежнему присутствуют оценочные суждения, причем как негативные, так и позитивные. При этом интересно отметить, что характеристика чукчей, так и не покорившихся русской власти, дается в целом более положительная, чем коряков, ставших «верноподданными». Особенно это заметно у Т. И. Шма-лева, оставившего ряд интересных сочинений по истории русско-чукотско-корякских отношений [Зуев А. С., 2003]. Он явно благожелательно пишет о чукчах, тогда как коряков оценивает преимущественно негативно. Например, К. Мерк сообщает: «чукчи кажутся любезными и услужливыми… Эти мужчины храбры, когда им противостоит масса, меньше боятся смерти, чем трусости». В то же время корякам он дает резко негативную оценку: «Эти туземцы неприглядны, малы, и даже на лицах их отображены их тайные козни… это кажется более свойственным Азии… эти туземцы трусливы… Как сообщают письменные свидетельства, в общем коряки убили гораздо больше казаков спящими, чем чукчи днем своими стрелами и копьями» [Этнографические материалы, 1978. С. 141].
Вопрос о соответствии оценок русской стороной чукчей и коряков их реальному образу, равно как и выяснение факторов (длительность военных действий, характер и степень личного знакомства «информаторов» с данными народами, уровень образования «информаторов», восприятие ими идеи превосходства европейцев над «дикарями» и т. д.), влиявших на формирование этих оценок, требует отдельного детального анализа. Пока же на основе вышеизложенного можно прийти к заключению, что оценочные характеристики чукчей и коряков не оставались статичными: от сугубо нейтральных в XVII – начале XVIII в. они стали резко негативными к середине XVIII в. По сути можно говорить о том, что в период наиболее активных военных действий произошло маркирование этнонимов «чукчи» и «коряки» такими оценочными прилагательными, которые способствовали формированию в сознании русских комбатантов образа чукчей и коряков как безусловных врагов. В последующем, со второй половине XVIII в., восприятие этих народов становится диахромным (сипатии/антипатии), однако еще долгое время, по свидетельствам, дошедшим от XIX – начала XX в., отношение русских к бывшим воинственным противникам оставалось весьма настороженное.