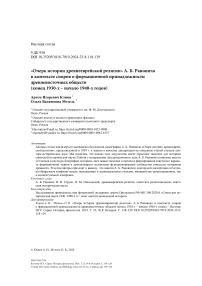"Очерк истории древнееврейской религии" А. Б. Рановича в контексте споров о формационной принадлежности древневосточных обществ (конец 1930-х - начало 1940-х годов)
Автор: Клюев А.И., Метель О.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография. Источниковедение
Статья в выпуске: 8 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Авторы статьи анализируют материалы обсуждения монографии А. Б. Рановича «Очерк истории древнееврейской религии», представленной в 1939 г. к защите в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Мы полагаем, что анализ этих документов имеет серьезное значение для историка советской исторической науки. Работа с материалами диссертационного дела А. Б. Рановича позволяет внести уточнения в научную биографию историка, дает новые сведения о процессе формирования советского варианта формационной теории и демонстрирует механизмы функционирования сообщества советских историков древности. В целом авторы приходят к выводу, что защита А. Б. Рановичем докторской диссертации отчетливо обнаружила конфликт между московскими и ленинградскими учеными, имевший как организационное, так и концептуальное измерение.
А. б. ранович, в. в. струве, н. м. никольский, древнееврейская религия, советское религиоведение, советская историческая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/147244817
IDR: 147244817 | УДК: 930 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-118-129
Текст научной статьи "Очерк истории древнееврейской религии" А. Б. Рановича в контексте споров о формационной принадлежности древневосточных обществ (конец 1930-х - начало 1940-х годов)
The research is supported by a grant of the President of the Russian Federation, project no. МК-309.2020.6 “Soviet
Historical Science of the 1940s – 1980s: the Experience of the Institutional History”
Реконструируя историю советской исторической науки, трудно оставить без внимания фигуру А. Б. Рановича (1885–1948), известного специалиста по истории иудаизма и раннего христианства, внесшего серьезный вклад в формирование советского марксистского канона изучения древности. Безусловно, и научная биография, и творческое наследие автора «Очерка истории древнееврейской религии» неоднократно становились предметом изысканий отечественных исследователей. Однако, несмотря на очевидные успехи в реконструкции творческого пути ученого (Абрам Борисович Ранович, 2018), немало обстоятельств его научной карьеры и сегодня остаются практически неизвестны отечественным специалистам. И к числу таковых, в частности, можно отнести эпизод, связанный с присвоением А. Б. Рановичу ученой степени доктора исторических наук.
В целом официальные советские нарративы не сообщали никаких сведений об ученых степенях и званиях А. Б. Рановича. И составители некролога, и авторы памятной статьи, опубликованной на страницах «Вестника древней истории» (ВДИ) к десятилетию со дня смерти ученого, выстраивали биографию исследователя, которого они называли «непартий- ным большевиком», в соответствии с приобретением им основных должностей в академических и вузовских структурах страны (Абрам Борисович Ранович, 1948; К 10-летию со дня смерти А. Б. Рановича, 1958). Некоторые детали «превращения» А. Б. Рановича сначала в кандидата, а затем в доктора исторических наук были приведены в трудах современных специалистов [Советская историография…, 2023, с. 45], полагавших, как и ранее авторы настоящей публикации, что защита А. Б. Рановичем докторской диссертации состоялась еще в 1937 г. (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 13), т. е. вскоре после выхода из печати его монографии «Очерк истории древнееврейской религии» (Ранович, 1937б), тогда как степень кандидата наук он получил еще в 1935 г. (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 12–13).
Однако материалы личного дела А. Б. Рановича, отложившиеся в фондах ВАК СССР в ГАРФ, продемонстрировали ошибочность подобной конструкции, заставив нас иначе подойти к вопросу о датировках этапов процесса «остепенения» заместителя главного редактора ВДИ 1. Именно поэтому в рамках настоящей статьи, опираясь как на указанные выше документы, так и на иные историографические источники (делопроизводственные материалы 2, воспоминания историков 1930–1940-х гг. (Ельницкий, 2014) и др.), мы попытаемся реконструировать один из значимых эпизодов научной биографии А. Б. Рановича, а именно обстоятельства получения им ученой степени доктора исторических наук.
Подобный сюжет, имеющий безусловную значимостью в контексте работы с материалом «истории одной жизни», на наш взгляд, способен вызвать интерес у историографа и с точки зрения изучения генеральных линий развития советской исторической науки. Ведь, как мы постараемся показать ниже, обсуждение монографии А. Б. Рановича «Очерк истории древнееврейской религии», выступившей также в роли его докторской диссертации, оказывается любопытным эпизодом полемики о формационной принадлежности древневосточных обществ, развернувшейся в советской науке в 1930-е гг. Более того, интересующее нас событие позволяет получить весьма любопытный материал для реконструкции антропологической составляющей историографического процесса, а именно продемонстрировать всю сложность взаимодействия советских специалистов по истории древности, которые, как неоднократно отмечали историки науки, и в 1930-е гг., и в последующие десятилетия весьма неоднозначно относились к претензиям В. В. Струве на лидерство внутри корпорации [Ананьев, Бухарин, 2022, с. 246].
Путь Абрама Борисовича Рановича (настоящее имя – Аврум Шаевич-Беркович Рабинович 3) к академической карьере был тернист. Он родился в декабре 1885 г. в Житомире в бедной еврейской семье, не имевшей возможности покинуть черту оседлости. Как в дальнейшем писал сам ученый в одной из своих автобиографий, именно «бедность и бесправие» не позволили ему поступить в гимназию 4, и, получив лишь традиционное еврейское образование, он продолжил самостоятельно постигать азы светской науки. Тем не менее, в 1903 г. А. Б. Ра-новичу удалось сдать экзамен на аттестат зрелости, а через два года, благодаря временной отмене процентной нормы, поступить на физико-математический факультет университета св. Владимира в Киеве.
Впрочем, обучение на этом факультете продлилось недолго. Являясь членом Бунда, А. Б. Ранович принял участие в первой русской революции, был арестован за призывы к ниспровержению существующего строя и в течение года находился в тюрьме (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 23). В 1908 г., после освобождения, он вернулся в Киевский университет, но теперь уже в качестве студента историко-филологического факультета. Выбор подобной специализации для окружающих был весьма неожиданным. Ведь в условиях сохранения ограничений на трудовую деятельность для иудеев историко-филологический факультет не открывал перед еврейским юношей широких карьерных возможностей, позволявших, не меняя веру, занять устойчивое положение в обществе [Иванов, 2007, с. 112–113]. Не располагая данными о причинах, побудивших А. Б. Рановича пойти на подобный риск, мы, однако, можем утверждать, что будущий филолог-классик успешно освоил программу университета (практически по всем предметам его знания были оценены экзаменаторами как «весьма удовлетворительные» 5) и был удостоен не только диплома I степени, но и серебряной медали за сочинение об Аполлонии Тианском (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 23).
Однако дальнейшая научная карьера А. Б. Рановича в поздней Российской империи оказалась невозможной: действующее законодательство исключало ситуацию, при которой иудей мог быть оставлен для подготовки к профессорскому званию. В результате до революции 1917 г. недавний ученик А. И. Сонни и Ю. А. Кулаковского занимался канцелярской работой и давал частные уроки и лишь в 1919 г., в условиях радикальной перестройки научнообразовательной системы страны, приступил к преподаванию древней истории и истории религий в новых учебных заведениях Киева (Киевский народный университет) и Житомира (Институт народного образования).
В 1923 г., вновь прервав свои научные занятия, А. Б. Ранович переехал в Петроград и поступил на службу в Госторг. Должность в Госторге историк занимал на протяжении шести лет, вплоть до 1929 г., когда, уже став жителем столицы, он был принят на работу в издательство «Безбожник». Такой поворот в карьере ученого, безусловно, был далеко не случаен. На рубеже 1920–1930-х гг. в период «штурма неба» потребность в кадрах квалифицированных специалистов-антирелигиозников в СССР была высока, а А. Б. Ранович, в отличие от большинства своих коллег по антирелигиозному цеху, не только обладал навыками критики религиозных идей с позиций здравого смысла [Метель, Попова, 2023], но и мог самостоятельно работать над историей иудаизма и раннего христианства. В результате уже в первой половине 1930-х гг., совмещая работу в издательстве с членством в антирелигиозной секции Института философии Коммунистической академии, ученый опубликовал не только целый ряд атеистических брошюр, но и два сборника документов по истории раннего христианства (Список трудов А. Б. Рановича, 1948, с. 141–142).
Впрочем, действительно широкие возможности для творческой деятельности открылись перед А. Б. Рановичем лишь во второй половине 1930-х гг., когда в СССР началось становление новых научных центров, связанных с изучением древности. Причем, в отличие от Ленинграда, в Москве этот процесс протекал в условиях очевидного «кадрового голода», ведь, как справедливо отмечал С. Г. Карпюк, к середине 1930-х гг. в столице практически не осталось специалистов по древней истории [Карпюк, 2021, с. 86–87], и выпускник Киевского университета, неплохо знавший древние и новые языки, оказался востребован руководством и академических, и вузовских структур. Так, в 1935–1937 гг. (по другим данным, в 1933– 1936 гг. 6) А. Б. Ранович работал в Московском отделении Государственной Академии истории материальной культуры (МО ГАИМК), а в 1937–1941 гг. – сотрудничал с ВДИ, Институтом истории АН СССР, МИФЛИ и МГУ 7. Иными словами, спустя более чем двадцать лет после окончания университетского курса, А. Б. Ранович все-таки получил возможность всецело посвятить себя изучению древности.
Однако во второй половине 1930-х гг. закрепиться на занятых «карьерных высотах», опираясь лишь на прежний «символический капитал», А. Б. Ранович уже не мог. В условиях возвращения к системе ученых степеней и званий, отмененных в 1918 г. на волне радикальной демократизации поля отечественной науки, перед советскими учеными, если они хотели сохранить свои рабочие места и продвинуться вверх по карьерной лестнице, встала необходимость получения новых «квалификационных символов», а именно ученых степеней кандидатов и докторов наук. И хотя, как свидетельствовал С. А. Жебелев, немало специалистов, особенно представителей «старой школы», скептически восприняли данную инициативу, отмечая, что их никто не лишал ученых степеней, приобретенных ими ранее, всё же многие историки, даже с дореволюционным прошлым, решили подтвердить свою квалификацию [Жебелев, 2002, с. 163–164].
Не остался в стороне от этого процесса и А. Б. Ранович, еще в 1935 г. предпринявший первую попытку получить степень кандидата исторических наук без защиты диссертации. Как гласил официальный отзыв, подписанный А. В. Мишулиным, одним из наиболее влиятельных ученых-коммунистов тех лет, его коллега по МО ГАИМК должен быть признан достойным степени кандидата наук, так как при работе над сборниками документов по истории раннего христианства он справился «со сложной обработкой первоисточников в их оригинальном виде» (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 254).
Однако, несмотря на столь высокую протекцию, кандидатом исторических наук в 1935 г. А. Б. Ранович всё же не стал: как свидетельствуют материалы кадрового делопроизводства Института истории АН СССР, искомая степень (без защиты диссертации) была ему присвоена только в июне 1938 г. 8 Причем мы не располагаем материалами, которые могли бы пояснить, какие именно труды ученого, опубликовавшего к тому моменту уже несколько серьезных научных статей и даже одну монографию (Список трудов А. Б. Рановича, 1948), позволили комиссии вынести подобное решение. А между тем этот вопрос представляется нам отнюдь не праздным. Ведь всего спустя девять месяцев после получения степени кандидата наук А. Б. Ранович защитил уже докторскую диссертацию на тему «Очерк истории древнееврейской религии» 9.
В официальных документах, отложившихся в фондах ВАК СССР в ГАРФ, практически нет упоминаний о том, что представляла собой данная диссертация. И объявление о защите, и выписка из протокола заседания Ученого совета исторического факультета МГУ указывали лишь тему диссертационного исследования, приглашая всех желающих ознакомиться с текстом работы в «кабинет древней истории» 10. Однако, опираясь на отзывы официальных оппонентов 11, мы всё же рискнем предположить, что в качестве диссертации А. Б. Ранович защищал свою более раннюю монографию «Очерк истории древнееврейской религии» (Ра-нович, 1937б). Формально он мог так поступить, так как официальные постановления того времени, регулировавшие процедуру защиты диссертаций, требовали от соискателя представления «самостоятельной исследовательской работы, в результате которой дано решение или теоретическое обобщение научных проблем или научно обоснованная постановка новых проблем», не оговаривая при этом форму представляемого текста (Об ученых степенях и званиях, 1937, с. 176). Монография же А. Б. Рановича, как неоднократно подчеркивали коллеги ученого, действительно давала «решение или теоретическое обобщение научных проблем», а именно представляла собой «первый опыт марксистского изложения истории древнееврейской религии» (Ранович, 1937б, с. III).
Если попытаться кратко охарактеризовать данный труд, то «Очерк истории древнееврейской религии» появился в печати в 1937 г. и представлял собой действительно серьезную монографию, в которой А. Б. Ранович продемонстрировал как знакомство с предшествующей исследовательской традицией и навыки самостоятельного анализа источников, так и ориентацию на широкие исторические обобщения и построение синтетических теорий марксистского толка (Ранович, 1937б). Базовой методологической установкой автора являлся тезис о том, что у религии нет своей истории, а значит, «на различных этапах истории евреев их религия менялась в соответствии с изменением социально-экономического базиса» (Рано-вич, 1937б, с. 4). И если древнейшей религией евреев, как и других первобытных племен, был анимизм, а в эпоху родового строя господствовал культ предков, то по мере становления государственности «религиозному отражению всё в большей степени стали подвергаться гнетущие общественные силы», и, как следствие, иудейская религия стала всё больше «срастаться с моральным учением, выражающим интересы господствующего эксплуататорского класса» (Ранович, 1937б, с. 164).
Научное сообщество в целом высоко оценило труд А. Б. Рановича. Как писал во вводной статье к данному тексту белорусский академик Н. М. Никольский, «историки-марксисты должны обратить внимание на весьма интересную и ценную работу т. Рановича прежде всего потому, что она, будучи вообще одной из немногочисленных марксистских работ по древневосточной истории, посвящена проблеме, которая до сих пор, к сожалению, недооценивается марксистской исторической наукой» (Ранович, 1937б, с. III). С подобными выводами соглашались и специалисты-антирелигиозники, также утверждавшие, что книга А. Б. Рановича отличается известной новизной, так как в ней «впервые дается марксистское освещение вопроса об образовании и ходе развития древнего израильско-иудейского общества» (Юдиц-кий, 1938, с. 60).
Вероятно, именно принимая во внимание подобные оценки, 27 марта 1939 г. на открытом заседании Ученого совета исторического факультета МГУ А. Б. Ранович представил к защите на соискание ученой степени доктора исторических наук свою работу на тему «Очерк истории древнееврейской религии». Как свидетельствует стенограмма заседания, с формальной точки зрения оно прошло вполне ординарно. А. Б. Ранович представил собравшимся основные положения своей работы, вновь подчеркнув, что с позиций марксизма иудаизм не может иметь собственную историю, и все изменения системы верований были обусловлены лишь трансформациями социально-экономических отношений 12. Затем, после речи диссертанта, были представлены отзывы трех официальных оппонентов: белорусского академика, известного отечественного библеиста Н. М. Никольского, который, правда, не смог лично участвовать в заседании и прислал письменный отзыв 13, ленинградского академика, востоковеда В. В. Струве, державшего самую длинную речь 14, и и. о. профессора МГУ Н. А. Машкина, специализировавшегося на изучении истории Древнего Рима 15.
В целом все оппоненты отмечали как достоинства, так и недостатки труда А. Б. Рановича, однако всё же они считали возможным присудить своему коллеге искомую ученую степень, что и стало возможным в результате поименного закрытого голосования, когда собравшиеся единогласно постановили: «I. Признать диссертационную работу т[оварища] Рановича А. Б. “Очерк истории древнееврейской религии” отвечающей требованиям, предъявляемым постановлением СНК СССР от 20/III–[19]38 г. 2. Присудить т[оварищу] Рановичу А. Б. ученую степень доктора исторических наук» 16. Это же решение в начале октября 1939 г. поддержала и экспертная комиссия по истории, действовавшая при Всесоюзном Комитете по делам высшей школы и рекомендовавшая ВАК утвердить решение Ученого совета исторического факультета МГУ о присуждении А. Б. Рановичу ученой степени доктора исторических наук 17. В результате, опираясь на столь единодушное мнение, 29 октября 1939 г. ВАК СССР действительно вынес положительное решение и утвердил А. Б. Рановича доктором исторических наук 18.
Таким образом, если анализировать лишь внешнюю сторону процесса присуждения А. Б. Рановичу ученой степени доктора исторических наук, то у читателя может создаться ощущение простоты и легкости, с которой московский исследователь получил искомую степень. Однако более детальное знакомство с материалами заседания Ученого совета исторического факультета МГУ убеждает нас в ошибочности данного тезиса. Как вспоминал
Л. А. Ельницкий, сотрудник редакции ВДИ, который достаточно хорошо знал А. Б. Рановича в 1930–1940-е гг., на защите докторской диссертации ученому пришлось дать «жаркий бой» одному из своих оппонентов, а именно В. В. Струве (Ельницкий, 2014, с. 80). И, опираясь на материалы стенограммы, мы можем заключить, что это свидетельство вполне точно отражало сложившуюся ситуацию.
Так, говоря о речи В. В. Струве на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ, мы можем заключить, что ленинградский востоковед действительно постарался обратить внимание собравшихся на все недостатки труда А. Б. Рановича, которые ему удалось обнаружить. В частности, он утверждал, что А. Б. Ранович был несправедлив к предшественникам, мало внимания уделял достижениям советской науки, использовал далеко не все доступные ему источники и отнюдь не всегда точно переводил и цитировал документы 19. Это далеко не полный перечень «прегрешений» диссертанта, к числу которых В. В. Струве даже добавил обвинение в тенденции к… антисемитизму 20. И хотя последнее замечание было сделано с рядом оговорок, у нас нет оснований для того, чтобы рассматривать его в качестве эмоциональной реакции, незапланированно прозвучавшей во время устного выступления ученого. Напротив, в официальном письменном отзыве, сохранившемся в личном деле диссертанта в ВАК, мы можем прочесть, что, по словам В. В. Струве, «благодаря нескольким неудачным выражениям, известной вульгаризации некоторых моментов библейского периода истории еврейского народа и, наконец, некритическому отношению к интерпретации буржуазными учеными некоторых текстов книга автора (А. Б. Рановича. – А. К. , О. М. ) /конечно не он сам/ может быть обвинена в известной тенденции к антисемитизму» 21. Итоговый вывод ленинградского академика, впрочем, был положительным для его московского коллеги: В. В. Струве всё же признавал заслуги заместителя главного редактора ВДИ в изучении заявленной темы и отмечал, что А. Б. Рановичу удалось собрать внушительный фактический материал, позволявший подтвердить тезис о рабовладельческом характере древневосточных обществ 22, следовательно, его «книга вполне заслуживает присуждения именно той степени, которую ищет автор, т. е. степени доктора исторических наук» 23.
Однако даже столь комплиментарный вывод, вероятно, не смог полностью смягчить те замечания, которые были высказаны В. В. Струве ранее, заставив не только самого диссертанта, но и присутствовавшего на защите третьего оппонента поставить вопрос о правомерности прозвучавшей критики. Если говорить о позиции Н. А. Машкина, выступавшего сразу после В. В. Струве, то он счел необходимым отметить, что, выдвигая против диссертанта столь «тяжкие обвинения», ленинградский востоковед весьма избирательно цитировал текст его научного труда 24, и хотя в работе А. Б. Рановича, по его словам, действительно можно найти достаточно технических (распределение материала внутри глав 25) и смысловых (невнимание к социальным аспектам иудейской религии 26) изъянов, они всё же не умаляют общего позитивного впечатления от текста монографии, которую нужно рассматривать как несомненное достижение советской науки 27. Неправомерность претензий В. В. Струве подчеркивал и сам А. Б. Ранович в заключительном слове, указывая собравшимся, к примеру, на тот факт, что ленинградский академик упрекал его в невнимании к трудам коллег, которые, однако, были опубликованы уже после выхода его монографии из печати 28. Подобная стратегия защиты, вероятно, сыграла свою роль, поскольку, как мы подчеркивали ранее, А. Б. Ранович всё же был удостоен степени доктора исторических наук.
Анализируя сложившуюся ситуацию, мы, безусловно, не можем оставить без внимания вопрос о причинах, заставивших В. В. Струве занять подобную позицию и выступить со столь неоднозначными обвинениями в адрес диссертанта. Так, если опираться на мнение современников, то подобные «полусерьезные» обвинения в адрес А. Б. Рановича вполне закономерны, так как они были обусловлены давней враждой между заместителем главного редактора ВДИ и его ленинградскими коллегами, в первую очередь С. Я. Лурье и В. В. Струве (Ельницкий, 2014, с. 78, 80). Подобный вывод, казалось бы, подтверждают и публичные высказывания А. Б. Рановича, сообщавшего, к примеру, читателям «Очерка истории древнееврейской религии», что в вопросах датировки библейских текстов В. В. Струве некритично воспринимал выводы буржуазных ученых и «делал… уступки поповщине» (Ранович, 1937б, с. 144–145, 188), да и в целом, по словам заместителя главного редактора ВДИ, выводы ленинградского академика относительно истории Древней Иудеи, особенно событий, связанных с Исходом, не просто изобилуют ошибками и неточностями, перечислять которые «долго и скучно», но и представляют собой «резкий скачок назад по сравнению не только с буржуазной историей, но и с либеральным богословием прошлого века» (Ранович, 1937а, с. 54). Но тогда в свете сказанного мы можем заключить, что «жаркий бой» между В. В. Струве и А. Б. Рановичем, состоявшийся 27 марта 1939 г. на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ, был не чем иным, как одним из эпизодов в давней полемике между специалистами по истории Древней Иудеи, и ранее использовавшими весьма спорные приемы научной критики.
Более того, если выйти за рамки обсуждения историчности тех или иных событий библейской истории, то нам придется признать, что полемика между А. Б. Рановичем и В. В. Струве являлась составной частью «битвы за Древний Восток», разгоревшейся во второй половине 1930-х гг. на данном участке «исторического фронта» [Крих, 2020, с. 29–31]. Ключевыми оппонентами в этом споре, затрагивавшем базовый вопрос о формационной принадлежности древневосточных обществ, оказались Н. М. Никольский и В. В. Струве, предлагавшие совершенно разные картины марксистской версии истории Древнего Востока [Крих, 2018; Ананьев, Бухарин, 2022]. И если, с точки зрения белорусского академика, ключевую роль в истории древневосточных обществ играла община, то его ленинградский коллега настаивал на том, что в основе экономики Древнего Востока лежало рабство [Крих, 2018. с. 16–17]. Позиция А. Б. Рановича в данном споре была неоднозначной. С одной стороны, он, как казалось бы и В. В. Струве, склонялся к признанию рабовладельческого характера обществ Иуды и Израиля. Недаром, именно в этом «прегрешении», т. е. «в увлечении “модной” сейчас рабовладельческой концепцией древневосточных обществ», еще в 1936 г. его обвинял Н. М. Никольский (Абрам Борисович Ранович, 2018. с. 80–81). Однако в то же время А. Б. Ранович, и с этим не мог не соглашаться белорусский академик (Абрам Борисович Ра-нович, 2018, с. 80–81), рисовал всё же иную, чем В. В. Струве, картину рабовладельческих отношений в Древней Палестине, оговаривая, что рабство здесь отличалось от античных образцов и сохраняло свой преимущественно патриархальный характер (Ранович, 1937б, с. 162–163). Более того, материалы переписки А. Б. Рановича с Н. М. Никольским периода их совместной работы над «Очерком истории древнееврейской религии» отчетливо свидетельствуют о том, что московский специалист вовсе не считал себя «продолжателем дела» В. В. Струве, оказывая ему известную услугу и подкрепляя новым фактическим материалом – данными по истории Древней Иудеи – выводы ленинградского академика о рабовладельческом характере древневосточных обществ. Напротив, по словам А. Б. Рановича, именно он являлся пионером, «открывшим» рабство на Древнем Востоке. Ведь он отстаивал концепцию древневосточного рабства задолго до широкого распространения «струвианского поветрия» и даже задолго до того, как сам В. В. Струве отказался от разделяемой им ранее концепции азиатского способа производства (Абрам Борисович Ранович, 2018, с. 85). Следо- вательно, в глазах «старого революционера» А. Б. Рановича В. В. Струве, приступивший к освоению марксизма только на рубеже 1920–1930-х гг. [Ладынин, 2022, с. 291] и разделявший многие «вредные» идеи Б. А. Тураева, никак не мог быть ни его «союзником», ни его «учителем».
Зато на роль «союзника» А. Б. Рановича в борьбе за «правильную марксистскую версию» истории Древнего Востока вполне мог претендовать академик Н. М. Никольский, отношения с которым у московского ученого, как свидетельствуют материалы их переписки, были весьма теплыми. Недаром, в отзыве официального оппонента, подготовленном минским библеистом в 1939 г., были существенно смягчены все прежние замечания в адрес диссертанта относительно его стремления следовать научной моде и уподоблять «израильско-иудейский /восточный/ общественный строй античному общественному строю» 29.
Однако если наши выводы верны и диссертационный диспут А. Б. Рановича оказался одним из эпизодов в полемике советских ученых о формационной принадлежности древневосточных обществ, в рамках которой заместитель главного редактора ВДИ выступил на стороне Н. М. Никольского в его давних спорах с В. В. Струве, то у историографа возникает вполне резонный вопрос о причинах выбора А. Б. Рановичем своих оппонентов. К сожалению, мы не располагаем документами, которые могли бы позволить однозначно истолковать мотивы, которыми руководствовался московский библеист, приглашая оппонировать ему своего давнего научного конкурента. Возможно, объяснение данному факту было вполне банальным, и речь шла просто о «кадровом голоде» середины 1930-х гг., когда, как мы уже говорили ранее, советская наука не располагала достаточным количеством специалистов по истории древности, которые могли бы квалифицированно оценить труд А. Б. Рановича. В то же время, вероятно, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что присутствие академика В. В. Струве, пусть он и состоял в весьма сложных отношениях с диссертантом, являлось одним из желательных условий легитимации данной процедуры, свидетельствовало о том, что ключевой специалист в области истории Древнего Востока признавал работу А. Б. Рано-вича достойной ученой степени доктора исторических наук.
Завершая анализ отдельного эпизода научной биографии А. Б. Рановича, хотелось бы подчеркнуть, что введенные нами в оборот архивные документы существенно уточняют картину развития советской историографии древности рубежа 1930–1940-х гг. И, в первую очередь они дают возможность реконструировать процесс присвоения А. Б. Рановичу ученых степеней кандидата и доктора наук. Так, в частности, теперь мы можем утверждать, что первая попытка получить ученую степень кандидата наук оказалась для А. Б. Рановича неудачной. Искомая степень была присуждена ему не в 1935 г., а в 1938 г., и только в марте 1939 г. на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ московскому библеисту удалось защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. Причем, согласно отзывам оппонентов, в роли диссертации выступила опубликованная историком ранее монография «Очерк истории древнееврейской религии». Процедура защиты диссертации признанным в Москве специалистом в целом прошла успешно. Однако второй оппонент, В. В. Струве, с которым у А. Б. Рановича были серьезные разногласия относительно вопросов прочтения ветхозаветных текстов, выступил с резкой критикой ряда положений, выносимых диссертантом на защиту. Но, вероятно, учитывая ангажированный характер прозвучавших замечаний, члены Ученого совета единогласно приняли решение о том, что А. Б. Ранович всё-таки достоин ученой степени доктора исторических наук. Тем самым участники заседания, на наш взгляд, открыли для А. Б. Рановича новые карьерные возможности, подтвердив его статус одного из лидеров советской истории древности и одного из ключевых разработчиков концепции рабовладельческого характера древневосточных обществ.
Список литературы "Очерк истории древнееврейской религии" А. Б. Рановича в контексте споров о формационной принадлежности древневосточных обществ (конец 1930-х - начало 1940-х годов)
- Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. "Есть что-то противоположное марксизму": дискуссии об азиатском способе производства в Государственном Эрмитаже начала 1930-х гг. (новые архивные материалы) // Проблемы истории, филологии и культуры. 2022. № 1. С. 243- 260. EDN: QVQSAS
- Жебелев С. А. Ученые степени в их прошлом, возрождение их в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем / Публ. и коммент. И. В. Тункиной // Очерки истории отечественной археологии. М.:, 2002. Вып. 3. С. 146-194. EDN: SISJZV
- Иванов А. Е. Еврейское студенчество в высшей школе Российской империи начала ХХ века. Каким оно было? Опыт социокультурного портретирования. М.: Новый хронограф, 2007. 436 с.
- Карпюк С. Г. А. В. Мишулин и формирование в СССР московского центра изучения древнего мира в 1930-40-х гг. // Журнал Белорус. гос. ун-та. История. 2021. № 2. С. 85-90. EDN: TPSDKZ
- Крих С. Б. История поражения: Н. М. Никольский в борьбе за понимание общественного строя древневосточных обществ // Восток / Orient. 2018. № 1. 13-22. EDN: YOTITM
- Крих С. Б. Другая история: "Периферийная" советская наука о древности. М.: НЛО, 2020. 320 с. EDN: JCYYQG
- Ладынин И. А. "Проверка основных тезисов, на которых покоится циклическая концепция Эд. Мейера": план работы В. В. Струве в ГАИМК в 1933 г. и его обсуждение // Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки". 2022. Т. 9, № 3 (35). С. 291-304. EDN: DIXZSI
- Метель О. В., Попова А. А. Проблемы библейской критики в советской антирелигиозной литературе 1930-1980-х гг.: случай И. А. Крывелёва // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. 2023. Т. 11. С. 284-306. EDN: ZGDFWA
- Советская историография всеобщей истории как научное творчество / Под общ. ред. С. Г. Карпюка, М. С. Петровой. М.: Аквилон, 2023. 224 с. EDN: NXVYNI