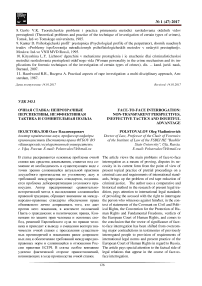Очная ставка: непрозрачные перспективы, неэффективная тактика и сомнительная польза
Автор: Полстовалов Олег Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
УДК 343.1 ОЧНАЯ СТАВКА: НЕПРОЗРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ, НЕЭФФЕКТИВНАЯ ТАКТИКА И СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА FACE-TO-FACE INTERROGATION: NON-TRANSPARENT PERSPECTIVES, INEFFECTIVE TACTICS AND DOUBTFUL ADVANTAGE ПОЛСТОВАЛОВ Олег Владимирович POLSTOVALOV Oleg Vladimirovich доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия. E-mail: Polstovalov74@mail.ru Doctor of Law, Professor of the Chair of Forensics of the Institute of Law of the FSBEI HE "Bashkir State University", Ufa, Russia. E-mail: Polstovalov74@mail.ru В статье раскрываются основные проблемы очной ставки как средства доказывания, ставится под сомнение ее необходимость в существующем виде с точки зрения сложившейся актуальной практики досудебного производства по уголовному делу и требований международных стандартов, поднимается проблема дебюрократизации уголовного правосудия. Автор предпринимает сравнительно-исторический метод в исследовании сложившейся правовой традиции, обращает внимание на международно-правовые стандарты обеспечения права обвиняемого лично допрашивать того, кто дает против него показания, в контексте положений Пакта о гражданских и политических правах, Конвенции по защите прав человека и основных свобод, решений Европейского суда по правам человека и приходит к выводу о смещении вектора значимости очной ставки с преодоления существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц к обеспечению требований международно-правовых норм и сложившейся в отношении России практики ЕСПЧ. В статье особое внимание уделено фактической стороне правоотношений, возникающих в ходе производства очной ставки.
Доказывание по уголовному делу, международные стандарты, практика еспч, бюрократизм уголовного правосудия
Короткий адрес: https://sciup.org/142233855
IDR: 142233855 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Очная ставка: непрозрачные перспективы, неэффективная тактика и сомнительная польза
В российском уголовном судопроизводстве существует немалое количество рудиментарных процедур и вновь насаждаемого преимущественно из-за внутриведомственного недоверия параллельного с законом документооборота и формализма. При этом, такие процедуры могут быть как предусмотренными законом, так и являться плодом творения лица начальствующего, волюнтаристски добавляющего бюрократии в и без того чрезвычайно дорогостоящий уголовный процесс.
Разумеется, дебюрократизация должна идти по всем направлениям, если принимать за точку опоры рациональность и профессионализм законодателя и правоприменителя. Не будем вдаваться в подробности о профессионализме и добросовестности нашей бюрократии, поскольку более иллюстративным показателем этого выступает качество нормативных полу-правовых актов и количество принимаемых абы как в контексте той или иной политической конъюнктуры изменений и дополнений в действующее уголовное и уголовное процессуальное законодательство. Административный аппарат нашего самого справедливого и суверенно-демократического государства в мире в зеркале творимого, в особенности в последнее время, законодательства в сфере уголовного правосудия выглядит, мягко говоря, «не очень». Однако даже случившиеся в законодательстве изменения, нацеленные на сокращение избыточной бюрократической волокиты, удивительным образом превращаются преимущественно по воле главного надзорного ведомства и его территориальных органов в еще более заадми-нистрированную и потому еще более дорогостоящую процедуру. Особенно это явственно наблюдается на примере расширения пределов доказывания требованиями о дублировании сведений посредством разных средств доказывания с трех-, четырехкратным пересечением: например, установленные обстоятельства в показаниях в их соответствии с обстановкой на месте происшествия и проведенными экспертизами по известной только прокуратуре логике еще и проверяются на месте; с необходимостью свидетельствующий об инсценировке кражи факт того, что по установленным в ходе осмотра места происшествия размерам ящик с товарно-материальными ценностями не проходит в пролом двери, требуют дублировать не устанавливающим ничего нового следственным экспериментом и пр. Бюрократизация проявляется и в том, что в настоящее время освобожденные законом от необходимости привлечения понятых при производстве, скажем, осмотра места происшествия следователи обязаны их отсутствие «компенсировать» применением средств технической фиксации ходя и результатов следственного действия. Казалось бы: используй видеозапись и живи спокойно! Ан нет, по данным опроса следователей в настоящее время по воле прокуратуры становится обязательным и присутствие понятых, и фото- или видео-фиксация.
Как представляется, вектор дебюрократизации досудебного и судебного производства по уголовному делу в современных условиях затянувшегося экономического кризиса становится как никогда перспективным, поскольку разумное сокращение бюджетных расходов в связи с необходимостью упразднения процедур, которые никак не связаны с качеством работы правоохранительных и судебных органов и не определены международными стандартами по взятым Россией на себя обязательствам, на руку всем. Однако нельзя не разделять опасений В.В. Лунеева, который пишет о том, что «если законотворцов от науки и практики криминального цикла, а также самих законодателей не интересует фактическая и позитивная эффективность той или иной нормы или кодекса (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ) в целом; если при разработке и принятии новых норм, не прогнозируются возможные нежелательные результаты их действия; если предлагаемые правовые новеллы рождаются методом «умной головы»

на основе неких логических умозаключений и некритичного списывания с законов других стран, которые выставляются ими более цивилизованными, и если основную роль при принятии законов играют продажные лоббисты от криминала, то о каком учете криминальных, криминогенных и коррупциогенных реалий в законодательстве может идти речь. Более того, озвучивание прогнозируемых криминальных последствий действия предлагаемых порочных законов может парализовать «передовое», выгодное, а иногда и доходное предприятие» [1, с. 23]. Разумная, а не оголтелая дебюрократизация досудебного судопроизводства представляется делом весьма доходным, поскольку, как известно, деньги сэкономленные есть деньги заработанные. Однако бюрократическая машина множит внутриведомственное недоверие и оправдывает свое существование ростом пустого бумаготворчества без сколько-нибудь заметного прогресса в качестве досудебного и судебного производства по уголовному делу.
Попытаемся обратить внимание на одно известное еще и дореволюционному правоприменителю следственное действие – очную ставку, которая по истине «расцвела» по факту применения во всех коннотационных красках и эмоционально поданных обвинительных речах советского периода сталинского тоталитаризма. Как представляется, это следственное действие по материалам практики дня сегодняшнего превратилось в обременительную полуобязанность, результатом выполнения которой в лучшем случае остается ситуация «все остались при своих». К какому устранению противоречий она ведет усилением воздействия фактора личного присутствия в обществе победившего безразличия и цинизма, на сколько она необходима и целесообразна в современных условиях, каким международным стандартам отвечает и, наконец, является ли столь незыблемой российской правой традицией, которая выделяет нас среди всех прочих стран тем, что в досудебном производстве мы готовы проводить ее, даже не ожидая никакого конструктивного результата, но рискуя многим?
Очная ставка имеет достаточно большую историческую ретроспективу в отечественном законодательстве и производстве по делу, но не такую древнюю, как полагают отдельные авторы. В литературе встречается утверждение, что известный в Русской правде «свод» (ст. 16 краткой редакции) стал прообразом современной очной ставки [2, с. 105]. Это весьма смелое допущение, поскольку свод представлял собой процесс отыскания того, у кого находится в незаконном владении вещь, а его регламентация на уровне обычая привела к тому, что в Русской правде подробного описания свода мы не встречаем [3, с. 57]. Общее правило о том, что свод ведется лицом до третьего покупателя, даже не дает намека на весьма отдаленную аналогию с очной ставкой. Другое дело, когда речь идет о свидетеле-очевидце, именуемым в Русской правде как по Пушкинскому, так и по Троицкому списку (ст. 29) «видок», то процесс противопоставления «слово противу слову» очевидцев действительно напоминал очную ставку. В частности в ст. 29 Пушкинского списка говорится: «Аще придеть кровав мужь на двор или синь, то видока ему не искати, но платити продажа 3 гривны; аще ли не будеть на нем знаменья, то привести ему видок слово противу слову; кто ли будеть почал, то тому пла-тити 60 кун; еще ли кровав придеть, или будеть сам почал, а вылизуть послуси (послухи – уточн. О.П.), то то ему платежь, оже и били» [4, с. 412]. При этом противопоставление сказанного видоком и явившемся, как видно, так же было возможно, но в для удовлетворения требований истца принципиально важным было при отсутствии явных телесных повреждений, чтобы сказанное ими совпадало слово в слово. Однако в полной мере очной ставкой подобное противопоставление «слова противу слову» (в переводах это порой обозначают, напротив, как «слово в слово») вряд ли можно назвать, поскольку во многом исход разрешения спора зависел не от устранения противоречий в сказанном, а от того, чья была инициатива в драке, какие имелись на теле телесные повреждения («кровав мужь») и кто располагал свидетелями-очевидцами и послухами-поручителями за доброе имя. Имеющиеся комментарии к сказанному и перевод на более современный русский язык ст. 29 по существу позволяют нам более точно понять норму Русской правды: «Если на [княжеский] двор придет чело- век в крови или с синяками, то ему нет нужды ставить очевидцев, и виновный платит ему 3 гривны продажи; если же на истце не будет знаков, то он должен представить очевидцев, которые бы подтвердили его показание слово в слово; тогда зачинщику драки платить 60 кун истцу. Если же истец придет в крови, а явятся свидетели, которые покажут, что он сам начал драку, то сосчитать ему то за платеж, как с зачинщика, хотя его и побили» [5, с. 351].
В ст. 14 «О татиных речех» Судебника 1497 г. говорилось: «А на кого тать возмолвит, ино того опытати: будет прирочной человек з доводом, ино его пытати в татбе; а не будет на него прирока з доводом в какове деле в прежнем, ино татиным речем не верити, дати его на поруку до обыску». Даже прямой оговор со стороны вора не предполагал необходимости проверки сказанного по типу очной ставки. Если обличение татем подтверждалось другими доказательствами («прирочной человек з доводом»), то его пытали в татьбе, е если нет, то сказанному вором не было необходимости верить. И в этом документе мы не обнаруживаем хоть сколько-нибудь похожие на очную ставку процедуры. Разумеется, поединок между ответчиком, который, если являлся престарелым, малолетним, имеющим увечья, или попом, или монахом, или монашкой, или женщиной, то мог прибегнуть к помощи наймита, и послухом (свидетелем), который не мог обратиться к чьему бы то ни было посредничеству, ничего с очной ставкой общего не имеет (ст. ст. 48, 49, 52 Судебника). Вместе с тем, если послух (свидетель) давал показания против истца, то тот проигрывал дело (ст. 51 Судебника 1497 г.) [6, с. 56, 61–62]. При этом Судебник 1497 г. подобно Псковской судной грамоте и в отличие от Русской правды уже не содержал различий между послухами и видоками, объединив всех свидетелей-очевидцев (а другими, кроме очевидцев, свидетельствующие и не могли быть в силу ст. 67 Судебника) под общим понятием «послух». Судебник 1550 г. сохранил положения о наймитах, но уже позволял проводить судебный поединок между свидетелями, поддержавшими показания истца и теми свидетелями, которые эти показания не поддержали (с. 15 Судебника) [6, с. 99]. Если не строго подходить к сути вопроса, то думается, что именно такой поединок по форме может считаться с очень большой долей условности предшественником очной ставки.
Не вдаваясь в существо провозвестников очной ставки в древней и средневековой Руси, отметим, что всякие прямые аналогии с современным следственным действием не совсем корректны ввиду различия типов процесса и необходимости рассмотрения данного средства доказывания в соответствующем историческом контексте. Однако здесь важно обратить внимание на отсутствие однозначной и устойчивой правой традиции, которая берет свое начало разве что в XIX веке. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. очная ставка упоминается дважды: согласно ст. 452 Устава «очные ставки даются свидетелям в тех случаях, когда от разъяснения противоречий в их показаниях зависит дальнейшее направление следствия», а в ст. 726 говорится, что «каждый свидетель может быть передопрошен в присутствии других свидетелей или поставлен с ними на очную ставку, но без повторения присяги» [7, с. 247, 266]. Выдающийся русский юрист Л.Е. Владимиров очную ставку рассматривал в качестве средства обследования предполагаемого виновника, отнеся ее к категории испытаний в двух вариантах «очная ставка с жертвою преступления» и «очная ставка со свидетелями» [8, с. 193–194]. Современное Л.Е. Владимирову законодательство, признававшее «оговор подсудимым посторонних лиц» несовершенным доказательством, предполагало также, что «сила оговора уменьшается, если подсудимый, до отыскания оговоренного, отправлен будет в ссылку, или умрет, так что невозможно будет удостовериться в справедливости оговора чрез очную ставку» [8, с. 57].
На заре становления советского государства УПК РСФСР 1922 и 1923 годов в отношении очной ставки отличались разве что нумерацией статей: «Обвиняемые, – указывалось в ст. 140 УПК РСФСР 1922 г., – допрашиваются порознь, причем следователь принимает меры к тому, чтобы обвиняемые по одному и тому же делу не могли сообщаться между собой. В случае надобности следователь устраивает очную ставку между обвиняемыми, а также между обвиняемыми и свидетелем», и абсолютно аналогичную формулировку мы встречаем
в ст. 137 УПК РСФСР 1923 г. Те же положения касались как допроса свидетелей порознь, так и очной ставки между ними «в случае надобности» (ст. 166 УПК 1922 г., и ст. 163 УПК 1923 г.). Правило, согласно которому каждый свидетель мог «быть передопрошен в присутствии других свидетелей или поставлен с ними на очную ставку» (ст. 294 УПК 1922 г. и ст. 240 УПК 1923 г.), было фактически дословно за вполне понятным исключением указания «без повторения присяги» воспроизведено из положений ст. 726 УУС. Случаи надобности были весьма расплывчатыми и в отличие от ст. 452 УУС 1864 г. не строго привязанными к необходимости разъяснения противоречий в ранее данных показаниях. Более того, в период репрессий 1930-х гг. очная ставка приобрела в обвинительных речах по самым резонансным делам характер не столько убедительного доказательства, сколько заметной части патетической риторики вокруг претенциозно поданных преследовательских аргументов. По делу о троцкистско-зиновьевском центре в ходе подержания обвинения в отношении И.Н. Смирнова и других подсудимых А.Я. Вышинский говорил: «Я хочу напомнить, что очная ставка с Сафоновой на предварительном следствии, в основном воспроизводящая то, что мы имели здесь на суде, очень характерна. Смирнов не решается отрицать доказательств, приводимых Сафоновой, он измышляет каучуковую форму лжи, он знает, что Сафонова клеветать не будет. Сафонова – его бывшая жена, с которой он никаких счетов не имеет, и на личные счеты он сваливать не может. Он говорит: «Не помню», «очевидно, такой разговор мог быть». Его спрашивают: «Был разговор об организации террора?» – «Не был, а мог быть». Такая же животная трусость им руководит сейчас, когда он, маскируясь, говорит: «Мне на это нечего отвечать» [9, с. 420]. Какая блестящая риторика, сколько эмоционально поданной лжи и полуправды, искажающей до неузнаваемости реализацию права обвиняемого на защиту, где даже заявления о том, что И.Н. Смирнов забыл отдельные факты и чего-то не мог вспомнить, преподносятся как «каучуковая форма лжи», свидетельствующая о трусости подсудимого.
С принятием УПК РСФСР 1960 г. право следователя проводить очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами уже напрямую было связано с существенными противоречиями в их показаниях, что было значительно конкретнее «случаев надобности». В ст. 162 УПК РСФСР говорилось: «Следователь вправе произвести очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия». Редакционное перемещение условия производства очной ставки в начало предложения в ст. 192 УПК РФ в принципе ничего не меняет: «Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную ставку». В любом случае об очной ставке законодатель упоминает в контексте возникающего права у следователя на ее производство. Но так ли свободен следователь как тогда при доминировании принципа объективной истины всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК 1960 г.), так и теперь уже без него, упоминаемого фрагментарно в отдельных статьях, но преимущественно без полноты (ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 154, ст. 239.1, ч. 2 ст. 325 УПК РФ) и один раз без всесторонности (ч. 4 ст. 152 УПК РФ)? В любом случае формально у следователя руководящего начала всесторонности, объективности и еще реже упоминаемой полноты в исследовании обстоятельств дела нет, но многое в современном судопроизводстве определяется фактической стороной возникающих правоотношений. Вопрос факта здесь имеет определяющее существо необходимости и целесообразности производства очной ставки значение. В настоящее время сложилась устойчивая тенденция отношения прокуратуры к органам расследования, которую можно назвать «презумпцией недобросовестности» или «стремлением перестраховаться от нежелательных эксцессов». При таком подходе многое, что формально определено как право следователя, превращается в его полуобязанность в связи с дискреционным полномочием прокурора по «ветированию» обвинительного заключения и поступившего к нему вместе с ним уголовного дела по формуле «о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обви- нения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями» (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Этот Дамоклов меч прокуратура использует с максимумом доступных ей преференций по бюрократизации досудебного уголовного судопроизводства. Опрошенные нами следователи подчеркивают «перестраховочную позицию прокуратуры», выражающуюся в требованиях производства следственных действий, которые не только не являются обязательными в полном смысле духа и буквы закона, как очная ставка, но и явно направлены на доказывание уже доказанных в достаточном объеме и качестве фактов.
От части необходимость производства очной ставки, как считают Д.Н. Кожухарик и Т.Г. Кудрявцева, определена п. 3e ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и п. 3d ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которых, по их убеждению, предусмотрена «норма о праве обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей (право на очную ставку) и праве на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него» [10]. Как представляется, такое прямое отождествление права допроса того, кто дает против тебя показания, и очной ставки выглядит весьма спорным, если обратить внимание на конкретные формулировки международных правовых актов и публичный характер производимых следственных действий. Право обвиняемого «допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него», установленные п. 3 «d» ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [11] и п. 3«e» ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [12] действительно теснейшим образом связаны с очной ставкой. Однако эти положения, во-первых, не предполагают расширительного толкования [13, с. 84], а во-вторых, в свете имеющихся решений ЕСПЧ создают иллюзорную альтернативу «допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены (выделено мной – О.П.)», тогда как в действительности право на личный допрос обвиняемым показывающего против него носит принципиальный характер. В контексте сказанного обращает на себя внимание известное Постановление Европейского Суда по правам человека от 17 февраля 2011 г. по делу «Кононенко (Kononenko) против Российской Федерации», в п. 66 которого ЕСПЧ отметил, «что заявитель не имел возможности допросить свидетеля Ш. во время следствия или в судебном разбирательстве … , что власти Российской Федерации не оспаривали того, что заявитель возражал против оглашения показаний свидетеля Ш., данных на стадии предварительного следствия, и не усматривает оснований полагать, что он отказался от своего права на очную ставку с этим свидетелем (выделено мной – О.П.)»[14]. Кроме того, в п. 69 Постановления Европейского Суда по правам человека был признан факт того, что «заявитель не имел возможности перекрестного допроса свидетеля, показания которого имели решающее значение для его осуждения, и … что национальные власти не приняли все разумные меры для обеспечения явки этого свидетеля в суд», в связи с чем Европейский Суд заключил, что «права заявителя на защиту были ограничены в степени, несовместимой с гарантиями, предусмотренными пунктом 1 и подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции. Соответственно, имело место нарушение этих положений». Следствием принятого ЕСПЧ решения по делу «Кононенко (Kononenko) против Российской Федерации» стало то, что Президиум Верховного Суда РФ постановил возобновить производство по данному уголовному делу ввиду новых обстоятельств[15]. Эта позиция ЕСПЧ по существу стала фактически частью правовой системы России, но сколько-нибудь заметных изменений в институте очной ставки мы по-прежнему не наблюдаем. Иными словами, обязательность ее производства по-прежнему остается вопросом факта в ситуации, когда свидетель, показывающий против обвиняемого, может не явиться в суд, и такое следственное действие в досудебном про-
изводстве якобы в полной мере реализует право подвергающегося уголовному преследованию лица допрашивать того, кто дает против него показания. Оговорка «якобы», разумеется, связана с тем, что обвиняемый на очной ставке может задавать вопросы показывающему против него свидетелю лишь с одобрения следователя, поскольку, как установлено в ч. 2 ст. 192 УПК РФ, «лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу». С точки зрения международных стандартов куда правильнее была бы специальная оговорка для подозреваемого, обвиняемого: «Следователь предоставляет возможность подозреваемому, обвиняемому задавать вопросы показывающему против него участнику процесса. Следователь отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. Отклоненные вопросы заносятся в протокол». Таким образом, де юре и де факто очная ставка является обязательной исключительно в случаях, когда на стадии расследования подозреваемому, обвиняемому необходимо предоставить возможность допросить показывающего против него участника процесса, поскольку здесь в духе международных стандартов важнее говорить не о свидетеле в контексте национального уголовного процессуального права, а о свидетельствующем против. Разумеется, право на участие в перекрестном допросе может быть реализовано и в суде, но в случае неявки и невозможности привода свидетеля или потерпевшего в суд, отсутствие очной ставки по ключевым свидетелям в досудебном производстве действительно создает реальную угрозу утраты доказательственной ценности полученных сведений-показаний обвинительного характера без их процессуальной «апробации» вопросами того, против кого они даны.
Помимо прочего, нельзя не отметить и тот факт, что обвиняемый в России больше, чем обвиняемый в контексте так называемого скрытого преследования свидетелей, когда фактически причастное к преступлению лицо долго участвует в процессе в таком качестве с возложением на него обязанности давать показания, например, против лидера преступной группы. С.А. Шейфер, справедливо увязывая закрепленное в УПК РФ право свидетеля пользоваться помощью адвоката с требованиями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., отмечает, что это легальное притязание «приобретает особую значимость тогда, когда в отношении свидетеля применяются акции, которые можно интерпретировать как скрытое проявление уголовного преследования (обыск, выемка, очная ставка и т.п.)»[16, с. 177]. В подобных ситуациях сложно фактически сузить право подвергающегося уголовному преследованию допрашивать того, кто показывает против него до процессуальной фигуры подозреваемого, обвиняемого. И тем не менее, подобная практика «скрытого преследования» есть вопрос факта. Подавляющее большинство свидетелей являются таковыми в собственном смысле слова, а потенциальные среди них подозреваемые и обвиняемые встречаются не так уж часто.
Доказывание без всесторонности, полноты и объективности, при парадоксальном в смысловом расхождении с реальной действительностью доминировании особого порядка производства по уголовным делам в связи с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением и реализацией института досудебного соглашения о сотрудничестве уже не то, что было прежде, и ценность очной ставки как средства преодоления существенных противоречий в ранее данных показаниях не имеет однозначного ориентира на установление истины по делу. К слову, если в результате ее производства случится нечто обратное запланированному следствием установлению действительных обстоятельств содеянного и получается совершенно обратный эффект, когда показывающий против обвиняемого свидетель согласится с высказанной на очной ставке вымышленной версией произошедшего подвергающегося уголовному преследованию лица, то и в этом случае процессуальный результат преодоления противоречий в ранее данных показаниях будет получен. Законодатель, судя по редакции норм о правовом регулировании производства очной ставки, индифферентен к какому типу преодоления противоречий ведет очная ставка. Более того, риски получить эффект прямо противоположный установлению истины путем преодоления противоречий в ранее данных показаниях весьма велик, например, при производстве очной ставки между обвиняемым с богатым преступным опытом и несовершеннолетним свидетелем, с которым непосредственного или с его близкими родственниками уже «поговорил по душам» защитник с их согласия, реализуя предоставленное ему п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ право.
Скепсис по поводу эффективности очной ставки в установлении истинного характера произошедшего события, изобличения лица или лиц причастных к совершению преступления выражают опрошенные следователи, которые, тем не менее, подчеркивают, что их право на производство этого следственного действия по воле прокуратуры нередко, в особенности, если речь идет о показаниях против обвиняемого, приобретает характер обязанности. В случае с обвиняемым подобная практика понятна с точки зрения международных стандартов в обеспечении обвиняемому права допрашивать того, кто показывает против него. Однако если обвиняемый сам отказался давать показания, то в контексте формулы «если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия» очная ставка даже в целях обеспечения права допрашивать показывающего против просто невозможна за отсутствием оснований к ее производству. Однако риск нарушения международных стандартов от этого не снижается. Как представляется, с учетом того, что преодоление противоречий никак напрямую не связано ни с охранительным судопроизводством в целом, ни с частным его проявлением обеспечения права обвиняемому допрашивать того, кто дает против него показания, следовало бы вернуться к формуле УУС 1864 г. о «случаях надобности». Кроме того, прерогатива по производству очной ставки должна перейти к стороне защиты, а следователь будет лишь отдельным постановлением разъяснить право обвиняемому допрашивать на очной ставке того, кто показывает против него, обличает его в содеянном своими показаниями.
В остальных случаях очные ставки между свидетелями или свидетелем и потерпевшим, думается, должны быть заменены возможностью предъявлять фрагменты протоколов ранее допрошенных лиц, что существенно сократит избыточную пустую и безрезультативную бюрократию уголовного процесса. И этот подход как некое общее правило может стать в целом универсальным, за исключением случаев тайного преследования, когда обретение свидетелем статуса обвиняемого должно автоматически влечь все процессуальные последствия, в том числе связанные с реализацией права допрашивать показывающего против него. Но стоит ли в очередной раз дыры дефектов практики правоприменения латать конъюнктурными изменениями и дополнениями в Уголовно-процессуальный кодекс России – вопрос риторический. Более того, фрагментарное сохранение очной ставки с обвиняемым в случае реализации его права допрашивать лично показывающего против него даже в предлагаемом нами варианте – без таковой между свидетелями – есть лишь полумера, поскольку в контексте сложившейся практики является хотя и слабой, но все-таки гарантией для стороны защиты в изобличении недобросовестного свидетельствующего против. Одновременно очная ставка в данном случае остается средством предупреждения возможных эксцессов неявки изобличающего свидетеля в суд. Глобальное решение проблемы видится в том, чтобы обеспечить надлежащий механизм перекрестного допроса в суде и явки свидетельствующего против в суд. Иными словами, лучшим решением было бы упразднение очной ставки вообще с перенесением центра тяжести реализации права обвиняемого допрашивать показывающего против него в судебное разбирательство. Однако такое возможно не на частном уровне и исключительно с очной ставкой, а если досудебное производство в целом будет существенно сокращено и качественно реорганизовано по аналогии, к примеру, с полицейским дознанием Германии.
Как отмечал в свое время М.С. Строгович, результат очной ставки возможен троякий: во-первых, следователь может уличить одного из участников следственного действия во лжи и таким образом устранит противоречие в показаниях; во-вторых, одно из допрашиваемых лиц или они оба могут понять допущенную ими ошибку в прежних показаниях и исправить
ее и, в-третьих, оба допрашиваемые могут остаться «при своих показаниях, но следователь либо убедится, в чем причина разногласия, какие показания правильны, а какие неправильны, либо же найдет путь для выяснения этого в процессе дальнейшего следствия посредством по- лучения и исследования новых доказательств». При этом, М.С. Строгович в контексте современного ему времени был оправданно оптимистичен: «При правильном проведении очной ставки она всегда дает какой-либо полезный результат. Встречающиеся же в следственной практике случаи, когда вся очная ставка сводится к тому, что допрошенные на очной ставке лица лишь повторяют свои ранее данные показания, означают неправильное, неумелое, чисто формальное проведение очной ставки»[17, с. 114]. Однако времена изменились кардинально, и следователь чаще всего бессилен качественно разрешить противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц установлением истинного положения вещей посредством производства этого следственного действия и становится заложником сложившейся конъюнктуры его фактической необходимости, усиливаемой еще и правилом о том, что «оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке» (ч. 4 ст. 192 УПК РФ). Как показывает современная практика досудебного производства по уголовному делу, очная ставка в подавляющем большинстве случаев оказывается безрезультатной или вовсе влечет утрату полученных достоверных сведений не по вине следователя, а связи с тем, что защитник еще до ее производства «опросил свидетельствующего против с его согласия», т.е. побеседовал с ним, а иногда и с его близкими родственниками «по душам». В скептическом отношении к познавательному потенциалу очной ставки мы не одиноки [18, с. 56]. Вместе с тем, в связи с имплементацией международных стандартов в области реализации права обвиняемого допрашивать того, кто показывает против него, сменился и вектор значимости очной ставки, сместившись от устранения противоречий в ранее данных показаниях к реализации означенного легального притязания в досудебном производстве.
В системе средств доказывания очная ставка занимает в современной практике уголовного судопроизводства одно из самых заметных мест. С уверенностью можно утверждать, что по воле прокуратуры, стремящейся к минимизации рисков при поддержании обвинения в суде из-за хронического недоверия к органам предварительного расследования, ее производство превратилось в «полуобязанность» следователя, дознавателя, разумеется, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Особенно печально, что в последние годы она все чаще становится обременительной формальностью не по вине следователя, а ввиду того, что никакой «эффект присутствия» в обществе победившего цинизма не может конструктивно воздействовать на лгущего с тем, чтобы склонить его к сообщению правдивых сведений. В лучшем случае по ее итогам «все остаются при своих». Имплементация международных стандартов в российскую правовую систему добавляет «пикантности» сложившейся кризисной ситуации с очной ставкой.
Список литературы Очная ставка: непрозрачные перспективы, неэффективная тактика и сомнительная польза
- Лунеев В.В. Проблемы уголовного права и других наук криминального цикла / Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 15-52.
- Прокофьева С.М. Становление и развитие института доказательств в России / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 5 (58). С. 102-107.
- EDN: QYTSHF
- Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1. Законодательство Древней Руси / отв. ред. тома В.Л. Янин. М.: Юрид. лит., 1984.
- Правда Русская. I. Тексты. / под ред. Б.Д. Грекова. М.-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1940.
- Правда Русская. II. Комментарии. / под ред. Б.Д. Грекова. М.-Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1947.