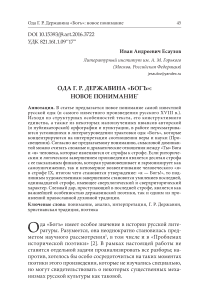Ода Г. Р. Державина "Богъ": новое понимание
Автор: Есаулов Иван Андреевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается новое понимание самой известной русской оды (и самого известного произведения русского XVIII в.). Исходя из структурных особенностей текста, его конструктивного единства, а также из некоторых малоизученных нюансов авторской (и публикаторской) орфографии и пунктуации, в работе пересматриваются устоявшиеся в литературоведении трактовки оды «Богъ», которые концентрируются на интерпретации соотношения веры и науки (Просвещения). Согласно же предлагаемому пониманию, смысловой доминантой можно считать сложные и драматические отношения между «Ты» Бога и «я» человека, которые изменяются от строфы к строфе. Если риторическим и логическим завершением произведения является десятая строфа с ее пасхальным финалом, которая уравновешивает и гармонизирует как самоуничижение, так и непомерное возвеличивание человеческого «я» в строфе IX, итогом чего становится утверждение: «я - Богъ!», то подлинным художественным завершением становится умиление в последней, одиннадцатой строфе, имеющее сверхлогический и сверхриторический характер. Слезный дар, проступающий в последней строфе, является как важнейшей особенностью державинской поэтики, так и одним из проявлений православной духовной традиции.
Понимание, анализ, интерпретация, г. р. державин, христианская традиция, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14748981
IDR: 14748981 | УДК: 821.161.1.09“17” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3722
Текст научной статьи Ода Г. Р. Державина "Богъ": новое понимание
О да «Богъ» имеет особое значение в истории русской литературы. Разумеется, она неоднократно становилась предметом научного рассмотрения1, в том числе и в «Проблемах исторической поэтики» [2]. В рамках настоящей работы не ставится отдельной задачи проанализировать все разборы; напротив, хотелось бы особо сосредоточиться на таких моментах поэтики этого произведения, которые не изучались специально, но могут свидетельствовать о некоторых существенных механизмах русской культуры как таковой.
По данным, которые приводит Й. Клейн, ссылаясь на специальные изыскания Н. А. Струве и Л. Мюллера, державинская ода «со времени первой публикации и по сей день» была переведена на французский язык 18 раз, на немецкий — 9 раз, да и вообще «в русской литературе XVIII в. нет другого произведения, которое вызвало бы такой широкий резонанс» [8, 126]. Хорошо известно также, что и сам Державин придавал своей оде совершенно особое значение. Дело тут не только (и не столько) в том, что, по словам автора, она «отъ всѣхъ похва-ляется»2. Именно этой одой Державин начинал свои прижизненные сочинения3, подчеркивая, что слово « Богъ» было первым из произнесенных им4, и замечая: «…можетъ-быть, Провидѣнiемъ предсказано <…> было <…> что напишетъ оду Богъ (6, 414). Существенно напомнить также и то, что Державин настаивает на особом времени и месте , когда он почувствовал «первое вдохновенiе или мысль къ написанiю сей оды» (3, 594): во дворце у всенощной на Светлое Воскресенье. Тем самым подчеркивается реально-биографический пасхальный контекст создания и совершенно особые обстоятельства завершения текста (см. об этом ниже).
С чем может быть связана значимость этого произведения? Как полагает Й. Клейн, «в своем стихотворении Державин предпринял попытку согласовать традиционную русскую веру в Бога с духом западноевропейского Нового времени, чтобы, при всем уважении к традиции, понять отношение человека к Богу и его положение во вселенной в соответствии с современным знанием. Успех державинской оды показывает, что ему удалось выразить это новое понимание языком, убедительным для современников и потомков» [8, 127]5. Несмотря на явное преувеличение значимости для Державина «духа западноевропейского Нового времени» и «западноевропейской религии разума» [8, 130], исследователь приходит к выводу, что у Державина «традиционная русская вера получает внушительное подтверждение» [8, 130]. Тогда как для Е. Эткинда, как раз «традиционная русская вера», проступающая в тексте державинской оды, не является сколько-нибудь значимым предметом внимания: «Державину удалось выразить наименее словесно выразимое: понятия Бесконечности и Вечности. Это осуществлено соединением абстрактно-метафизических рассуждений с наиконкретнейшими реалиями материального мира, данными в сравнениях и метафорах. <…> Единство незримого и зримого, абстрактнометафизического и материально-телесного потому феноменально, что ведь и весь смысл оды — в этом единстве» [15, 242–243]. Наряду с бесспорными и важными для современного изучения Державина положениями, в этих работах содержится также ряд произвольных допущений. Так, оба исследователя, интерпретируя державинский текст, обращаются к нему выборочно, не вполне учитывая эстетическую природу этого произведения как художественного целого. Поэтому наше истолкование мы начнем с рассмотрения конструкции текста.
Прежде всего обратим внимание на некоторую (кажущуюся) незавершенность (или асимметричность) строф. Логично ожидать, что в произведении, где автор пытается поэтически сформулировать догматически непротиворечивые отношения между «Ты» (Богом) и «я» (человеком), наличествовало бы четное количество строф (двенадцать или десять). Если не касаться здесь известной каждому библейско-евангельской традиции (десять заповедей или двенадцать апостолов, иногда символизирующих и саму Церковь6), то достаточно вспомнить хотя бы позднейшую русскую лирику, таящую в себе древние смыслы7. Однако в оде «Богъ» (восстановлением канонического варианта заглавия подчеркивается значимость для научного изучения текста традиционной русской орфографии державинской и последующей эпох) — одиннадцать строф. В данном случае (в отличие от стихотворения «На смерть князя Мещерскаго», где завершающая одиннадцатая строфа представляет собой попытку риторического примирения с неизбежностью смерти и даже в определенном смысле морального поучения и подготовки к неизбежному «чистого душою» Перфильева) в державинской оде используется совершенно иной прием поэтического завершения. Ниже он будет рассмотрен.
Пока же сосредоточимся на конструктивной выстроенно-сти предшествующих строф оды. По мнению Е. Эткинда, «композиция оды отличается той же безусловной убедительностью: ода состоит из двух частей по 5 строф и одной заключительной строфы — извинения автора, дерзнувшего покуситься на великую тему. Обе же равновеликие части посвящены: первая — Богу (“Ты”), вторая — человеку (“я”)» [15, 243]. На самом же деле художественная реальность державинского произведения сложнее этой схематизации. Бросается в глаза, что личные местоимения «Ты» и «я» (а также их производные) весьма неравномерно представлены в разных строфах.
«Ты» имеется в первой (единожды, но зато в самой первой строке: «О, Ты, пространствомъ безконечный» (1, 195); второй (четырежды: «Тебѣ», «Твоего», «Тебѣ», «Твоемъ»); третьей (шесть раз, и все в форме «Ты», при этом последняя строка представляет явное сгущение и концентрацию этого «Ты»: «Ты былъ, Ты есь, Ты будешь ввѣкъ!» (1, 197); такого рода частотность уникальна в тексте этой оды, с ней отчасти корреспондирует лишь четырехкратное использование местоимения «я» в седьмой строке девятой строфы: «Я царь — я рабъ — я червь — я Богъ!» (1, 201)); четвертой (во всей строфе трижды: «Ты», «Тебя», «Тобой»); пятой (дважды: «Твои», «Тобой»); шестой (четырежды: «Тобой», «Тобою», «Тобою», «Тобой»); седьмой (опять четырежды: «Ты», «Твоихъ», «Тебя», «Ты»); восьмой (вновь четыре раза, но в одной форме — «Ты»); в девятой — впервые и единственный раз во всей оде — местоимение «Ты» отсутствует вовсе; но в десятой строфе частотность его употребления возвращается к четырем: «Твое», «Твоей», «Твоей», «Твое», а в одиннадцатой «Ты» присутствует трижды: «Твоей», «Тебя», «Тебѣ». Как видим, художественный текст выстроен автором значительно сложнее той научной его систематизации, которая приводилась в предыдущем абзаце.
«Я» отсутствует с первой по пятую строфы; зато в шестой строфе используется трижды («мной», «я», «я»); в седьмой — пять раз («мнѣ», «мнѣ», «я», «моя», «я»); в восьмой — девять («мое», «мнѣ», «меня», «мой», «я», «я», «мнѣ», «я», «мной»); в девятой — уникальные десять раз (и все десять раз в форме «я»; повторимся, что именно в этой, девятой, строфе не только совершенно исчезает отсылка к «Ты», но и имеется вызывающая формула: «я — Богъ»); в десятой строфе «я» употреблено шесть раз («я», «я», «моей», «мое», «мой», «я»); в одиннадцатой «я» встречается дважды («я», «моей»).
Таким образом, пока что в самом общем виде мы можем констатировать резкое преобладание «Ты» в первых строфах оды (в первых пяти из них, как уже подчеркивалось, «я» вообще отсутствует), которое сменяется преобладанием «я» в седьмой-девятой строфах (при этом девятая строфа представляет собой концентрированное (само)утверждение человеческого «я»). Сам же момент встречи «я» и «Ты» наблюдается в шестой строфе, которая могла бы быть срединной, если бы Державин решил следовать принципам симметричности и соразмерности (правда, тогда бы он не был Державиным). Заметим еще попутно, что местоимение «мы» возникает всего лишь единожды — в первой строфе («Кого мы называемъ — Богъ» (1, 196)), однако человеческое «мы» неявно присутствует, кроме этого, еще и в последней строфе: «То слабымъ смертнымъ невозможно» (1, 203) (курсив в цитируемом тексте здесь и далее мой. — И. Е. ).
Следует также обратить внимание, что после констатированного уже своего рода разгула (само)утверждения лирического субъекта («я») в девятой строфе (далеко не случайно строка: «Я царь — я рабъ, я червь — я Богъ!» — стала хрестоматийной и едва ли не самой узнаваемой державинской строкой вообще), все-таки эта строфа завершается не восклицанием (восклицательным предложением), а вопрошанием и смиренной констатацией: «Отколѣ происшелъ? — безвѣстенъ, / А самъ собой я быть не могъ» (1, 202).
Десятая строфа — если уже не вспоминать о семантике завершения в числе «двенадцать» — могла бы и сама быть завершающей. Хотя бы потому, что десять строк каждой строфы в таком случае сочетались бы с десятью строфами самой оды в целом. Можно указать и на кажущееся итоговым авторское возвращение в тексте к исчезнувшему было местоимению «Ты»: «Твое созданье я, Создатель!» (1, 202), контрастирующее с седьмой строкой из предыдущей строфы (которая — в данном случае — не только выделялась четырехкратным повтором «я», но и тем же самым восклицательным знаком). В этой же строфе имеется переход от «Ты» как Создателя (в первой строке, где «я» — только лишь одно из Его творений), к «Ты» как именно Отцу (в последней строке):
«И чтобъ чрезъ смерть я возвратился, / Отецъ! въ безсмертiе Твое» (1, 203).
Иллюзия завершенности столь сильна, что, комментируя именно десятую строфу, Е. Эткинд замечает: это «важнейшая философская строфа оды»; «заключительные строфы второй части — высшая точка философской мысли Державина, утверждение диалектики жизни и смерти» [15, 244]. Но как понимает эту «важнейшую» строфу Е. Эткинд? Он находит, что здесь «та же особенность, что и отмеченная выше: отвлеченная метафизическая (курсив мой. — И. Е. ) мысль (смерть есть форма бессмертия) выражена посредством материально зримых метафор (бездна и бытие, преходящее ее; дух облачился в смертность; человек возвращается через смерть в бессмертие создавшего его Отца, Бога)» [15, 244]. Интерпретируется же эта «диалектика жизни и смерти» исследователем следующим образом: «Строфа IV (IX) — Человек как центр мира, как единство противоположностей, как соединение плоти и духа; наконец, строфа V (X) поднимает еще выше (sic! — И. Е. ) это утверждение противоречивой природы человека: он смертен — такова форма его бессмертия» [15, 244]. Показательно, что, растворяясь в «диалектике», собственно христианский (православный) смысл державинского произведения Е. Эткиндом последовательно редуцируется. Тогда как в тексте Державина, где речь идет еще и о сыновней признательности Небесному Отцу (а не только лишь Создателю миров), явственно мерцает православный пасхальный архетип [3]: ведь любому читателю, укорененному в той «традиции», о которой напомнил и Й. Клейн, совершенно ясно, что возвратиться к Отцу «чрез смерть» невозможно, минуя пасхальное воскресение. И любая «диалектика» никоим образом не может помочь «я» обрести «бессмертие», проходя через «смертну бездну», если у этого «я» нет пасхального христианского упования.
Та же самая редуцирующая собственно державинский смысл аналитическая процедура производится исследователем не только с десятой строфой, но и в целом с текстом. Так, первую строфу Е. Эткинд «переводит» на научный язык следующим образом: «В строфе I определен Бог — относительно пространства, времени и движения, причинности, постижимости, пребывания» [15, 243]. Однако, как мы уже видели, рассуждая о сакрализации числа три (на чем особо настаивал Державин и в своем тексте, и в «Объяснениях на сочинения…»), — речь идет не просто о Боге, но именно о христианском Боге, а значит, и о Святой Троице. Если же «понятие» о Троице (мы использовали державинское слово из «Объяснений…»), столь важное для самого автора, вовсе не рассматривается, это решительно искажает и интерпретацию всего произведения, выводит ее за пределы спектра адекватности [6]; [4, 577–582].
Почему Державин не только не удовлетворился таким риторически стройным (и как будто даже отчасти напрашивающимся) завершением? Согласно Е. Эткинду, никакого напряжения, особого накала в девятой строфе нет; выходит, что стоящий в центре мира человек («человек как центр мира») — это вполне, так сказать, «нормально». Но так ли мыслил мир Державин? И об этом ли ода «Богъ»? Весьма сомнительно. Лирический субъект, поэтическое «я», человек, находящийся все-таки в поле русской православной традиции, почувствовал своего рода онтологическую неуверенность от подобного «вознесения». И именно поэтому девятую строфу автор и завершает не гордым восклицанием «я — Богъ!», но немедленным возвратом «я» на то самое свое место, которое и приличествует, во всяком случае, помнить православному человеку.
Поскольку здесь и выше мы цитировали державинский текст в соответствии с определенной научной традицией, то уместно указать на важную текстологическую проблему. Сравнительно недавно А. Левицкий предложил «изменить принятую у держа-виноведов практику пользоваться почти исключительно первым изданием Грота» [10, 354]8. Левицкий является одним из самых авторитетных современных исследователей Державина, в цитируемой нами статье предлагается убедительное решение нескольких дискуссионных вопросов. Однако же, вникнув в то, как Я. К. Грот передает наиболее известную державинскую строку в первом и во втором изданиях, а также то, как он обосновывает свой текстологический выбор, мы не уверены в безусловной правоте американского русиста относительно преимуществ второго академического издания Державина. В комментариях ко второму изданию 1868–1878 годов Грот утверждает: «…хотя въ рукописяхъ Державина, въ этомъ стихѣ слово Богъ вездѣ начинается съ большой буквы, мы позволили себѣ измѣнить это правописанiе, такъ какъ Державинъ, вообще непослѣдова-тельный въ орѳографiи, всегда такъ писалъ это слово, даже и тогда, когда рѣчь шла о языческихъ богахъ. Едва ли онъ здѣсь имѣлъ намѣренiе приравнять человѣка къ высшему Существу; конечно, онъ въ этомъ стихѣ разумѣлъ, подобно Юнгу — a gоd»9. На первый взгляд, пусть не текстологически (все-таки это явное нарушение авторской воли), но в определенном смысле Грот прав, если речь идет о сугубо метафорическом выражении, не мог же русский поэт XVIII века написать о себе самом: «я — Богъ!». Поэтому Грот и передает державинское слово Богъ со строчной буквы, как будто речь идет в данном случае о языческом божестве. Однако обратим внимание на то, что в первом издании сочинений Державина 1864–1883 годов («с рисунками, найденными в рукописях, с портретами и снимками»), комментарий Грота к этому месту державинского текста был иным: «Мы съ своей стороны должны указать на различiе пониманiя слова Богъ въ стихѣ Юнга и въ стихѣ Державина. Юнгъ употребилъ это названiе какъ нарицательное имя, съ неопредѣленнымъ членомъ, и потому оно начинается у него строчною буквою (a god); Держа-винъ, напротивъ, всегда писалъ въ этомъ стихѣ Богъ» (1, 202)10.
Как видим, и у самого Грота мы не находим полной уверенности в том, какой именно вариант написания может быть в научном издании вполне каноническим, поэтому в изданиях сочинений Державина 1864–1883 и 1868–1878 годов предлагаются разные варианты (с отличающимися комментария-ми!11). Считать ли входящим в спектр адекватности оба варианта, либо же предпочесть какой-нибудь один? Издательская практика исторической России такова, что встречалось то и другое написание. Для нашего же ответа на этот вопрос обратим внимание на несколько моментов, относящихся к поэтике данного произведения.
Хотя именно в XVIII веке, как известно, русская словесность благодаря европейскому влиянию испытывает своего рода нашествие античной мифологии с ее «богами», у Державина нигде, ни в одной строфе этого произведения нет ни одного намека на уподобление себя (или, скажем так, своего лирического героя) какому-либо из античных «богов». Напротив того, начиная с самого названия оды, речь идет исключительно о Создателе (именно о «верховном Существе», как это формулирует Грот). Вспомним и то, что если русская литература державинской эпохи обращалась к мифам Древней Греции (и Рима), то практически всегда это обращение имело характер освоения культурного наследия античности (являясь своего рода литературной игрой). Никто, разумеется, вполне всерьез не воспринимал античных «богов» как именно богов, которые являлись атрибутом античной культуры, часто — смехового пространства этой культуры (либо же переводились в смеховое пространство уже на русской почве, как, например, в ироикомической поэме В. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»), но никак не религиозно-серьезной сферы. В державинской же оде нет и тени игры, все здесь — совершенно всерьез, до последнего предела этой серьезности.
Нас как читателей поражает (что, очевидно, и входило в художественную задачу Державина) ослепительный контраст между самоуничижительным «я червь» и дерзостным «я Бог!», резко усиливший и без того драматическую оппозицию «царя» и «раба» в начале этой самой знаменитой в русской поэзии XVIII века строки. Зададимся вопросом: бесконечная дистанция между червем (резкое семантическое снижение «я» уже после раба ) и Богом могла ли быть таковой, если бы речь шла о каком-либо античном «боге» или если подразумевается сугубо метафорическое уподобление? Вряд ли. Не нужно забывать, что и спустя без малого четверть века после написания этой оды Державин в пределах одной стихотворной строки допускает подобное же сближение: «Единъ есть Богъ, единъ Державинъ» («Приказъ моему привратнику») (3, 420)— и хотя — в 1808 году — к подобному сопоставлению поэт относится уже как к «глупой гордости», но ведь «мечтал» же! Нет, в данном случае явно идет речь о драматически совмещающихся в едином «я» максимально удаленных пределах, о полюсах (как и в случае Царя и раба ), речь идет именно о последнем из последних и первом из первых. А таким может быть именно тот Богъ , о котором и идет речь в оде, но отнюдь не любой из «богов» античного космоса.
Весьма существенно — и опять с позиций чистой поэтики, — что слово Богъ, присутствующее в девятой строфе, звучит, включая заглавие, третий раз в тексте. Так поддерживается (и укрепляется на уровне все той же поэтики) троичность, о которой Державин рассуждает в первой же строфе, затем комментируя в «Объяснениях на сочинения…» свое рискованное с богословской точки зрения утверждение (что живо обсуждали, и полемизируя, и соглашаясь с ним, его современники, а также и позднейшие исследователи, укоряя, как, например, Д. Л. Башкиров, в «бесплодной игре ума и фантазии», в склонности «к неким метафизическим абстракциям» [2, 150]). Вряд ли третье — и последнее — звучание, а также визуальная реальность (экспликация) самого слова Богъ (в оде «Богъ»!) для того употреблено автором, чтобы зачем-то — в сторону античных «богов» — увести своих читателей, удаляясь от магистрального сюжета оды и понижая — к финалу! — накал чеканных ее строф.
Если слова о «трех лицах Божества», так или иначе, но сакра-лизующие и само число три в оде «Богъ», прямо эксплицированы поэтом и в тексте, и в авторских комментариях к нему, то выявление кратного трем числа девять, лишь имплицитно содержащегося в конструкции текста (девятая строфа, где как раз и возникает вызывающее «уподобление»: «я Богъ!») и отсылающего — на уровне поэтики — к той же самой Троице, потому что без этого третьего именования Бога был бы только лишь повтор заглавия, хотя и в особо значимом месте — в конце первой строфы («Кого мы называемъ — Богъ!» (1, 196)), представляет собой необходимую часть собственно литературоведческой «читательской деятельности» (ср.: [13]). Однако в данном случае эта «деятельность» отнюдь не произвольна, а входит в спектр адекватности в интерпретации державинского произведения. Достаточно заметить, что «нумерологический» пласт рассматриваемого текста в обоих гротовских изданиях (для его времени, как известно, близких к образцовым в текстологическом отношении, несмотря на нашу «критику» конкретного решения в девятой строфе) уже потому имеет бóльшую, чем может показаться, семантическую значимость, что порядок строф пронумерован, становясь в этом случае частью текста (хотя бы и на рецептивном уровне).
Возвращаясь к седьмой строке девятой строфы, немаловажно заметить, что не только последнее определение «я» («Богъ»), но и первое («Царь») в следующей же строфе непосредственно соотносится именно с христианским Богом (Создателем): «Душа души моей и Царь» (в ряде дореволюционных изданий12 Державина здесь также присутствует прописная буква). Поэтому, несмотря на пропасть между «царем» и «рабом», в том и другом случае имеются, помимо прямой семантики оппозиции «царя» и «раба», еще и коннотации, единящие эти слова, — в несомненно присутствующем в культурном бессознательном Державина концепте «раба Божия», в равной степени присущего и «царю», и «рабу».
Что же до «червя», непосредственно предшествующего определению себя как Бога, то любопытные семантические результаты может дать обращение к древнейшей славянской азбуке — глаголице св. Кирилла. В «Проблемах исторической поэтики» уже предпринималась попытка «дешифровки и интерпретации» этого древнейшего славянского текста, вне всяких сомнений известного не только Державину, но и любому русскому грамотному человеку. Не вдаваясь в особенности аргументации Л. В. Савельевой, представляющейся в целом вполне убедительной, хотелось бы обратить внимание лишь на один аспект, существенный для прояснения нашего понимания державинской оды. Дело в том, что «азъ» (я) и «чрьвь» — символы, которые начинают и завершают эту азбуку.
Червь , как подчеркивает Л. В. Савельева, приводя евангельское свидетельство св. Матфея, «в контексте христианской культуры <…> символ самого ничтожного творения Создателя, в полной мере живой еще для человека XVIII века (далее следует отсылка как раз к строке Державина. — И. Е. ), а также символ бренности плотского начала…» [12, 21–22]. В той смысловой перспективе, которую пытается реконструировать исследователь, для азъ предлагаются два пути: путь херувима («отрешение печали») или путь червя . Последний имеет «антиэстетический ассоциативный ореол» и является «символом всякого конца, противостоящего вечности» [12, 24]. Л. В. Савельева полагает, что глаголическая азбука Кирилла с ее символическими именованиями каждой буквы обнаружива ет «строгую упорядоченность <…> до чрьвь включительно, поскольку каждый буквенный знак мог представлять определенную цифру в натуральном ряде единиц, десятков и сотен. Буква чрьвь завершала этот ряд, соответствуя 1 000» [12, 24].
Существенно то, что реконструируемый «сюжет» славянской азбуки (от «азъ» к «херувиму» либо «червю»), хотя, как может показаться, противоположный державинскому (от «Ты» к «я» и обратно — но уже в пасхальной перспективе — вновь к «Ты»), имеет — опять-таки на уровне поэтики — некоторое, причем достаточно очевидное, сходство. Дело в том, что глаголическое изображение «я» («азъ») являет собой не что иное, как «прямой и непосредственный символ Иисуса Христа» [12, 29], поскольку явно представляет собой крест. Правда, по мнению Л. В. Савельевой, «это не только символ Христа <…>, но и несомненная идеограмма , изображающая христианскую доктрину мирозданья и духовного развития личности ( аза ). Космогоническая модель-схема здесь естественно связана с пространственной ориентацией, с понятием верха‒низа: поперечная перекладина, ограниченная загибами вниз, символизирует материальное, земное начало, а незамкнутая вертикальная черта — начало идеальное, духовное; их точка пересечения представляет собой символ познающего субъекта (азъ), уподобленного самому Богу , и вместе с тем отправную точку в духовном развитии человека. Характерно при этом, что верхняя часть вертикали не знает ограничений, соответствуя бесконечности (открытости) духовного пространства, а нижняя часть вертикали могла иметь вариант с ограничительной черточкой — как знак конечности земного, плотского начала. Космогоническая схема идеограммы азъ, таким образом, заключает в себе идею единства противоположностей — материального и духовного, земли и неба, человека и Бога» [12, 29–30]. Таким образом, дерзновенные, хотя и вполне укорененные в православной традиции, державинские поэтические соотнесения «Ты» и «я», «Царя», «раба», «червя» и «Бога», можно не только рассматривать в контексте «малого времени» литературного XVIII века, как русского, так и европейского (на чем, в соответствии с уровнем науки его времени, почти исключительно сосредоточил свое внимание Грот), но и в «большом времени» православной культуры как таковой.
Необходимо заметить, что ода «Богъ» заставляет особо задуматься также и о корректности использования современной орфографии и пунктуации в научном издании текстов русской классики. Речь идет не только о проблеме строчной или прописной буквы в слове «Богъ», но и в совершенном изменении всего графического облика этого произведения — в «переводе» его на «язык» современного (советского по своему политическому происхождению) правописания (или, как едко сформулировал И. А. Бунин, «заборной» орфографии, которая, по словам Д. С. Лихачева, «посягнула на самое православное в алфавите» [11, 13])13. Это, конечно, относится не только к Державину: до сих пор нет, к примеру, вполне аутентичного издания всемирно известной «Жизни Арсеньева» Бунина — несмотря на весьма определенно — и недвусмысленно — неоднократно выраженную авторскую волю14. Однако именно в издании канонических текстов Державина, где поэт обращается к высоким, сакральным смыслам, нынешние массовые издания не только упрощают, но и снижают эти смыслы, искажая как авторскую волю, так и, используя язык устаревшей ныне терминологии прежнего литературоведения, «форму и содержание».
Речь идет о совершенном исчезновении прописных букв, обозначающих «Ты» (напомним, это структурообразующий для конструкции текста в целом момент): например, только в первой строфе «понижены» следующие слова: «Ты», «Божества», «Собою», «Богъ». Во второй строфе таких слов также четыре, в третьей — семь и т. д. В некоторых случаях графический вид строки совершенно изменяется, по сравнению с каноническим (державинским). Например: «Ты былъ, Ты есь, Ты будешь ввѣкъ». Можно сказать, что при «переводе» на десакрализованную орфографию исчезает сама личност-ность «Ты», Бог становится некой обезличенной абстракцией, к которой просто-напросто невозможно поэтому никакого в строгом смысле личностного обращения. По отношению же именно к этому тексту такого рода снижение и обезличивание «Ты» недопустимо, поскольку совершенно меняет смысл и семантику всего произведения: так, решительно немыслимо по отношению к подобной абстракции произнести эмоционально окрашенное «Отецъ!», как это происходит в десятой строфе, о чем еще будет сказано.
Однако «упрощение» орфографии до современного ее состояния проявляется не только в понижении прописных букв, явно искажающих смысл державинского шедевра. Есть и более тонкие нюансы. Например, само название оды укорачивается не на один, а на два знака. В конце заголовка традиционно ставилась точка, поэтому читать заглавие следует так: «Богъ.». Присутствие конечного еръ — в его отличие от мягкого ерь — восстанавливает весьма важную нюансировку (особенно, если восстановить и пунктуацию). Например, в той же ключевой строке: «Я Царь15 — я рабъ, я червь — я Богъ» — размеренным чередованием конечных «ь/ъ», несколько смягчаются неравномерные семантические переходы от высокого к низкому, затем к нижайшему, а потом непосредственно к высочайшему. Заметим: важную роль играет и согласный «р» (рьцы), на который первое из четырех слов заканчивается, второе — начинается, затем это «р» словно бы прячется в середину слова, чтобы затем исчезнуть в последнем существительном. Упорядоченное чередование «ь/ъ», «ь/ъ» наряду с повторяющимся между антонимичными существительными знаком «—» уже своей ритмической симметрией, резко контрастирующей с вызывающими, даже эпатирующими уподоблениями, готовит читателя к последующему примирению и гармонизации в десятой строфе. Подчеркнем, что изображается совсем не разновременная смена различных состояний человека, но единством строки подчеркивается и чудесное («столь чудесенъ»), именно одновременное совмещение полюсов в единстве личности «я».
Ода «Богъ» — это не только произведение о «согласовании веры и знания», отражающее специфическую атмосферу последней трети русского XVIII века; это прежде всего произведение первого ряда русской лирики как таковой, за все ее существование, которое, конечно же, заключая в себе культурные коды именно XVIII века, вместе с тем, с непревзойденным (и «после» Державина) художественным мастерством поставило «вечную» проблему соотношения «Ты» (Бога) и «я» (человека).
На протяжении десяти строф («куплетов», по Державину) автор чеканными своими строками формулирует то, что не может обойти или позабыть ни один живущий «в мире сем», приходя в итоге к пасхальному завершению, разрешающему как риторические, так и логические вопросы.
Однако в одиннадцатой строфе — с самого ее начала — словно бы уже слышатся рыдания, которые в данном случае проявляются ритмическим сбоем, взрывным нарастанием пиррихиев: «Неизъяснимый, Непостижный!». Помимо уникальности ритмической организации строки для художественного целого оды, начало одиннадцатой строфы (если говорить о канонических вариантах державинского текста) выделяется еще и уникальным для произведения соединением только двух слов, которые, характеризуя Бога, передаются прописными буквами. Примечательно, что если предшествующие десять державинских строф Е. Эткинд хотя бы кратко, но анализирует, то заключительную строфу, которую исследователь назвал «извинениями автора», он даже и самым беглым образом не затрагивает. Это неудивительно, ведь одиннадцатая строфа нарушает выстроенную им самим (но не Державиным!) «композицию» оды, не укладывается в «диалектику». И для Й. Клейна, к сожалению, одиннадцатая строфа является не очень-то обязательной, поскольку, видимо, об искомом им согласовании веры и Просвещения там ничего нет16.
Оказывается, что ни риторически, ни логически, ни даже богословски — живущий на земле смертный человек не может вполне успокоиться (успокоить себя), размышляя над соотношением «Ты» и «я». Выходит, без умиления, невозможного — в данном случае — без особого слёзного дара невозможна все-таки не только истинная жизнь человеческая, но невозможно и подлинное завершение оды «Богъ», в финале преодолевшее стройные (хотя порой и восторженные) богословские, логические и риторические силлогизмы. «Православное сердце» (прот. Г. Флоровский (3, 210)17) Державина проявило себя в таком завершении (сверхриторическом финале) самым непосредственным и явным образом.
Гавриил Романович Державин, как известно, особо настаивал на чудесном характере подобного завершения, о чем традиционно говорится в комментариях к оде, ставших своеобразным дополнением к ней: «…запершись, сочинялъ оду сiю нѣсколько дней сряду; но, не кончивъ послѣдняго куплета, уже за полночь уснулъ. Лежа на кровати и сомкнувъ глаза, увидѣлъ во снѣ, что чрезвычайный свѣтъ блещетъ въ глазахъ его, вдругъ проснулся. Ему показалось на яву, что вокругъ стѣнъ леталъ свѣтъ… При этомъ потоки слезъ полились изъ глазъ его. Онъ всталъ и при ночной лампадѣ написалъ послѣднюю строфу, окончивъ ея выраженiемъ чувства, наполнявшаго душу его, съ благодарными слезами, за дарованное ему вдохновенiе»18.
Похоже ли это описание — как и сама одиннадцатая строфа — на «извинения автора»? «Благодарные слезы», о которых пишет биографический человек — Г. Р. Державин — и те «благодарны слезы», которыми заканчивается последняя строфа державинской оды, отсылают читателя к православной традиции слёзного дара, известного по многим свидетельствам, например, свт. Игнатия (Брянчанинова) [9]. Категория умиления, которая — в ряду других новых категорий нашего литературоведения, эксплицирующих православную традицию, призвана фиксировать подобные — важнейшие для нашей словесности — ее особенности, относительно недавно предложена по отношению к поэтике Достоевского [7]. И, разумеется, она может быть использована не только в этом случае.
В заключительных строках оды наблюдается и знаменательный возврат к человеческому (соборному) «мы» первой строфы («Кого мы называемъ — Богъ» (1, 196)). Уникальное для этой оды в силу своей единичности словоупотребление мы хотя и не присутствует непосредственно в последней строфе, но финальное обращение к «слабымъ смертнымъ» его подразумевает. Соборное (слёзное) приобщение к этому человеческому «мы», выход за пределы только лишь собственной единичности происходит как раз в финале оды: ведь «благодарны слёзы лить» может не только герой («я»), но и любой читатель державинского произведения, обладающий слёзным даром.
Такого рода рецепция и представляется наиболее адекватным прочтением этого шедевра. Хотелось бы подчеркнуть, что не комментарии («Объяснения на сочинения…») Державина являются главным, решающим аргументом предлагаемого нового понимания этого произведения. В данном случае (как, впрочем, и во всех других) подобные биографические свидетельства выступают важным, но лишь добавочным свидетельством. Главным же — и основным — аргументом является построение самого художественного текста, в конструктивных особенностях которого, подчеркивая их поэтический, художественный смысл, мы и пытались разобраться в данной статье.
Примечания
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-04-00212а.
-
1 Из наиболее интересных последних работ, имеющих непосредственное отношение к державинской поэтике, можно выделить статьи Е. Г. Эт-кинда [15] и Й. Клейна [8].
-
2 Сочиненiя Державина: в 9 т. / с объясн. прим. [и предисл.] Я. Грота. СПб.: Имп. Акад. наук, 1871. Т. 6. С. 414. Далее ссылки на это издание, кроме специально оговоренных случаев, приводятся по этому изданию в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
-
3 Практически все дореволюционные державинские издания (за исключением изданий Я. Грота) также открывались именно одой «Богъ». См.: Сочинения Державина. Ч. 1. М.: в Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1798. 399 с.; Сочинения Державина: ч. 1–4. СПб.: А. Смирдин, 1831. Ч. 1. [4], VIII, 342, [5] с., 2 л. фронт. (портр. и грав. тит. л.); Сочинения Державина: ч. 1–4. СПб.: тип. И. Глазунова и Кº, 1843. Ч. 1. [6], LXXXII, 292 с., 1 л. фронт. (портр.); Сочинения Державина / биогр. писана Н. А. Полевым. СПб.: изд. Д. П. Штукина, в тип. К. Жернакова, 1845. [6], IV, XX, 395 с.; Сочинения Державина: т. 1–2. СПб.: А. Смирдин, 1847. Т. 1. — [4], VIII, 760 с. (Полное собрание сочинений русских авторов); Сочинения Державина. 2-е изд. Т. 1–2. СПб.: А. Смирдин, 1851. Т. 1. XII, 738 c. (Полное собрание сочинений русских авторов); Избранные сочинения Гавриила Романовича Державина. СПб.: А. А. Каспари, 1893. 226, II с.
-
4 См.: «Родился онъ 1743 года 3 iюля, а въ 1744 году, въ зимнихъ мѣсяцахъ, когда явилась комета, то онъ, бывъ около двухъ годовъ, увидѣвъ оную и показавъ пальцемъ, бывъ у няньки на рукахъ, первое слово сказалъ: Богъ » (3, 594).
-
5 Наше истолкование соотношения европейского интеллектуального влияния эпохи Просвещения и православной веры в русской словесности см.: [5].
-
6 См., например, соображения С. С. Аверинцева о «двенадцатичастной полноте»: [1].
-
7 Ср., например, есенинское: «Скоро, скоро часы деревянные / Прохрипят мой двенадцатый час» (Есенин С. А. Я последний поэт деревни // Есенин С. А. Полн. собр. соч.: в 7 т. М.: Наука-Голос, 1995. Т. 1. С. 137).
-
8 Сам А. Левицкий использует, по-видимому, в соответствии со своим предложением, в передаче державинского: «…я — Богъ!» — строчную букву.
-
9 Гротъ Я. [Примечания] // Сочиненiя Державина / 2-е Академическое изд. с объясн. примеч. [и предисл.] Я. Грота. СПб.: Имп. Акад. наук, 1868. Т. 1: Стихотворенiя. С. 143.
-
10 В этом издании слово «Богъ» в девятой строфе набрано с прописной буквы. Нужно заметить, что в большинстве дореволюционных изданий слово «Богъ» в этой строке пишется именно с прописной буквы. См.: Собеседник любителей российского слова. 1784. Ч. 13. С. 125–129; Державин Г. Р. Ода Бог. М.: в Унив. тип., у Окорокова, ок. 1792. 4 с.; Сочинения Державина. Ч. 1. М.: в Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1798. 399 с. В XIX веке такое написание встречается в изданиях: Бог. Ода / соч. Г. Р. Державина, полож. на музыку И. Л. Фуксом. СПб.: тип. К. Крайя, 1831. 15 с.; Сочинения Державина: ч. 1–4. СПб.: А. Смирдин, 1831. Ч. 1. [4], VIII, 342, [5] с.; Сочинения Державина: ч. 1–4. СПб.: тип. И. Глазунова и Кº, 1843. Ч. 1. [6], LXXXII, 292 с.; Сочинения Державина / биогр. писана Н. А. Полевым. СПб.: изд. Д. П. Штукина, в тип. К. Жернакова, 1845. 395 с.; Сочинения Державина: т. 1–2. СПб.: А. Смирдин, 1847. Т. 1. [4], VIII, 760 с. (Полное собрание сочинений русских авторов); Избранные сочинения Г. Р. Державина, с вводными заметками, примечаниями историческими, критическими и библиографическими, и алфавитными указателями Льва Поливанова: Записки Державина. Стихотворения. Драмат. произведения. Проза. Со снимком с бюста Г. Р. Державина. М.: тип. М. Н. Лаврова и К°, 1884. [2], 8, 442 с. (Русские прозаики и поэты: пособие при изуч. рус. лит. Льва Поливанова); Избранные сочинения Гавриила Романовича Державина. СПб.: А. А. Каспари, 1893. 226, II c. Такое написание принято и в хрестоматиях, см.: Яковлев В. А. Русская хрестоматия: сб. статей, выбранных из произведений русской литературы / с учеными примечаниями Н. Н. Полевого. СПб., 1874. 242 с.; Русские поэты в биографиях и образцах / Н. В. Гербель; под ред. [и с предисл.] П. Полевого. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1888. [8], 582, IX с.; Историко-литературная хрестоматия нового периода русской словесности / сост. А. Галахов. 20-е изд. М.; Пг.: Т-во «В. В. Думнов — насл. бр. Салаевых», 1916. Т. 1. VIII, 485 c.
-
11 Что совершенно не оговаривается Я. Гротом в Предисловии ко второму изданию, где составитель утверждает следующее: «Когда еще только предпринималось въ Академiи Наукъ изданiе сочиненiй Державина, рѣшено было напечатать ихъ двоякимъ образомъ: сперва съ рисунками, найденными въ рукописяхъ поэта, и съ соотвѣтствующею тому обстановкой, а потомъ безъ рисунковъ, въ возможно простомъ и сжатомъ видѣ, такъ чтобы книга, сохраняя вполнѣ свое содержанiе , могла быть легко прiобрѣтаема всѣми.
По выпускѣ четырехъ томовъ роскошнаго изданiя начато было, на этомъ основанiи, печатанiе изданiя общедоступнаго. Теперь выхо-дитъ въ свѣтъ I-й томъ его. Сверхъ отсутствiя рисунковъ и всего, что къ нимъ относится, оно представляетъ еще одно внѣшнее отличiе отъ прежняго. Тамъ дополнительныя свѣдѣнiя, накоплявшiяся во время печатанiя, помѣщались отдѣльно въ концѣ каждаго тома; здѣсь оказалось возможнымъ включить и эти прибавленiя въ составъ примѣчанiй, приложенныхъ въ своемъ мѣстѣ къ каждому стихотворенiю. Во всемъ остальномъ нынѣшнее изданiе совершенно сходно съ первоначальнымъ и, подобно ему, будетъ состоять изъ семи томовъ, точно такъ же расположенныхъ. Сентябрь 1868» (курсив мой. — И. Е.) (Сочиненiя Державина. Т. 1. 1868. С. III–IV). Как можно уже было заметить, далеко не «во всем остальном» новое издание Грота «совершенно сходно с первоначальным».
-
12 См.: Собеседник любителей российского слова. 1784. Ч. 13. С. 129; Сочинения Державина. Ч. 1. М., 1798; Державин Г. Р. Ода Бог. М., ок. 1792; Сочинения Державина: ч. 1–4. СПб., 1831. Ч. 1.; Сочинения Державина. СПб., 1845; Сочинения Державина: т. 1–2. СПб., 1847. Т. 1; Сочинения Державина. 2-е изд. Т. 1–2. СПб., 1851. Т. 1; Избранные сочинения Г. Р. Державина. М., 1884.
-
13 Для молодого Д. С. Лихачева было ясно, что посягающие «они (имя которым легион) хотят предать забвению ту ненавистную связь, которая существовала когда-то между Византией и Русью, Россией» [10, 13–14].
-
14 См. переписку И. А. Бунина периода подготовки последнего прижизненного издания «Жизни Арсеньева» (1952) в Нью-Йорке. Например: «Обращаюсь еще раз с горячей мольбой: убедите вашу редколлегию пересмотреть ее решение относительно того, чтобы мои три книги издавались у вас по старой орфографии. <…> Да, эта новая орфография очень больное мое место, иногда просто сводит меня с ума своей нелепостью, низостью, угодливостью черни — и тем, что ведь ни одна (выделено Буниным. — И. Е. ) страна в Европе не оскорбляла, не унижала так свой язык…» (Бунин И. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Моск. рабочий, 1996. Т. 5. С. 563).
-
15 В прижизненных изданиях Державина иногда и в слове «Царь» используется прописная буква: в этом случае для современного читателя переосмысливается семантический ореол слова, да и графический облик строки выглядит иначе, что не может быть нейтральным с рецептивных позиций. См.: Сочинения Державина. Ч. 1. М., 1798; Державин Г. Р. Ода Бог. М., ок. 1792. В XIX веке такое написание встречается в издании: Бог. Ода / соч. Г. Р. Державина. СПб., 1831.
-
16 Ср.: «…стихотворение заканчивается новым прославлением Творца, причем начальный мотив непостижимости Бога повторяется и в свете обретенных в ходе поэтического развития этого стихотворения представлений подтверждается более авторитетно» [8, 133].
-
17 Именно Г. Флоровскому принадлежат горькие строки о том, что «богословская наука развивалась въ Россiи въ искусственной и слишкомъ отчужденной средѣ, становилась и оставалась школьной наукой <…> Богословская мысль отвыкала прислушиваться къ бiенiю Церковнаго сердца» [14, 503]. Ср. весьма актуальные — в силу намечающегося поворота в нашем литературоведении — суждения Г. Р. Державина о соотношении «пиита» и «догматика»: «…пiитъ не есть догматикъ: онъ говоритъ иногда
загадочно, подразумѣваемо, кратко, а иногда съ нѣкоторою свободой и вольностiю. — Сiе ему тѣмъ паче кажется извинительно, что самое богословiе подвержено разнымъ противорѣчiямъ <…> cудебъ и таинъ Божiихъ никто изъ смертныхъ изъяснить не можетъ» (Сочиненiя Державина. СПб., 1866. Т. 3. С. 210).
-
18 Сочинения Державина: Т. 1–2. СПб.: А. Смирдин, 1851. Т. 1. С. 6. Это смирдинское издание Державина (как и прежние его издания 1831 и 1847 годов), по которому цитируется в данном случае текст, также само является фактом истории русской литературы. Оно, в отличие от гротовских изданий, традиционно открывается одой «Богъ». Ср. иной вариант завершения: «…при освѣщающей лампадѣ, написалъ послѣднюю сiю строфу, окончивъ тѣмъ, что въ самомъ дѣлѣ про-ливалъ онъ благодарныя слезы за тѣ понятiя, которыя ему вперены были» (3, 594).
Список литературы Ода Г. Р. Державина "Богъ": новое понимание
- Аверинцев С. С. Двенадцать апостолов//Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. -Киев: ДУХ I ЛITEРА, 2006. -С. 173-176.
- Башкиров Д. Л. Ода Г. Р. Державина «Бог»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. -Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. -С. 140-150 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2480 (03.08.2016).
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. -М.: Академика, 2015. -616 с.
- Есаулов И. А. Словесность русского XVIII века: Между ratio Просвещения и православной традицией//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -С. 7-26 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430908318.pdf (03.08.2016).
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). -М.: Изд-во РГГУ, 1995. -102 с.
- Захаров В. Н. Умиление как категория поэтики Достоевского//Celebrating Creativity. Essays in Honour of Jostein Børtnes/Ed. by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. -Norway: University of Bergen Press, 1997. -Pp. 237-255.
- Клейн Й. Религия и Просвещение в XVIII веке: ода Державина «Бог»//XVIII век. -СПб.: Наука, 2004. -Сб. 23. -С. 126-133.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения: в 7 т. -М.: Правило веры, 1993. -Т. 1: Аскетические опыты (раздел «О слезах»). -570 с.
- Левицкий А. Оды «Бог» у Хераскова и Державина (Предварительные заметки)//Gavriil Derzhavin (1743-1816)/Ed. Etkind E., Elnitsky S. -Northfield; Vermont: The Russian School of Norwich University, 1995. -Pp. 341-354.
- Лихачев Д. С. Статьи разных лет. -Тверь: Тверское отделение Рос. фонда культуры, 1993. -144 с.
- Савельева Л. В. Славянская азбука: дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XX веков: цитата, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 12-31 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2371 (03.08.2016).
- Федоров В. В. Литературоведческий анализ как форма читательской деятельности//Проблемы истории критики и поэтики реализма. -Куйбышев, 1980. -Вып. 5. -С. 143-154.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. -Париж: YMCA-PRESS, 1983. -600 с.
- Эткинд Е. Две дилогии Державина//Gavriil Derzhavin (1743-1816)/Ed. Etkind E., Elnitsky S. -Northfield; Vermont: The Russian School of Norwich University, 1995. -Pp. 234-256. Ivan A. Esaulov
- Аверинцев С. С. Двенадцать апостолов//Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. -Киев: ДУХ I ЛITEРА, 2006. -С. 173-176.
- Башкиров Д. Л. Ода Г. Р. Державина «Бог»//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. -Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. -С. 140-150 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2480 (03.08.2016).
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. -М.: Кругь, 2004. -560 с.
- Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. -М.: Академика, 2015. -616 с.
- Есаулов И. А. Словесность русского XVIII века: Между ratio Просвещения и православной традицией//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -Вып. 11: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 8. -С. 7-26 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430908318.pdf (03.08.2016).
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). -М.: Изд-во РГГУ, 1995. -102 с.
- Захаров В. Н. Умиление как категория поэтики Достоевского//Celebrating Creativity. Essays in Honour of Jostein Børtnes/Ed. by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. -Norway: University of Bergen Press, 1997. -Pp. 237-255.
- Клейн Й. Религия и Просвещение в XVIII веке: ода Державина «Бог»//XVIII век. -СПб.: Наука, 2004. -Сб. 23. -С. 126-133.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения: в 7 т. -М.: Правило веры, 1993. -Т. 1: Аскетические опыты (раздел «О слезах»). -570 с.
- Левицкий А. Оды «Бог» у Хераскова и Державина (Предварительные заметки)//Gavriil Derzhavin (1743-1816)/Ed. Etkind E., Elnitsky S. -Northfield; Vermont: The Russian School of Norwich University, 1995. -Pp. 341-354.
- Лихачев Д. С. Статьи разных лет. -Тверь: Тверское отделение Рос. фонда культуры, 1993. -144 с.
- Савельева Л. В. Славянская азбука: дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. -Вып. 3: Евангельский текст в русской литературе XX веков: цитата, мотив, сюжет, жанр. Вып. 1. -С. 12-31 . -URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2371 (03.08.2016).
- Федоров В. В. Литературоведческий анализ как форма читательской деятельности//Проблемы истории критики и поэтики реализма. -Куйбышев, 1980. -Вып. 5. -С. 143-154.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. -Париж: YMCA-PRESS, 1983. -600 с.
- Эткинд Е. Две дилогии Державина//Gavriil Derzhavin (1743-1816)/Ed. Etkind E., Elnitsky S. -Northfield; Vermont: The Russian School of Norwich University, 1995. -Pp. 234-256. Ivan A. Esaulov