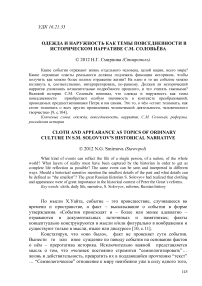Одежда и наружность как темы повседневности в историческом нарративе С.М. Соловьёва
Автор: Смирнова Нонна Георгиевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социально-исторические реконструкции
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Какие события отражают жизнь отдельного человека, целой нации, всего мира? Какие огромные пласты реальности должны подлежать фиксации историком, чтобы получить как можно более полное отражение жизни? На одно и то же событие можно взглянуть и, соответственно, интерпретировать, по-разному. Должен ли исторический нарратив упоминать незначительные подробности прошлого, и что считать таковыми? Великий историк С.М. Соловьёв понимал, что одежда и наружность как темы повседневности приобретают особую значимость в контексте преобразований, проводимых предшественниками Петра и им самим. Это то, о чём «стоит толковать, как стоит толковать о всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого творчества» [9, с.104].
Одежда, повседневность, нарратив, с.м. соловьёв, реформы, российская история
Короткий адрес: https://sciup.org/14238925
IDR: 14238925 | УДК: 16.21.33
Текст научной статьи Одежда и наружность как темы повседневности в историческом нарративе С.М. Соловьёва
По мысли Х.Уайта, событие – это происшествие, случившееся во времени и пространстве, а факт – высказывание о событии в форме утверждения. «События происходят и – более или менее адекватно – отражаются в документальных источниках и памятниках; факты концептуально конструируются в мысли и/или фигурально в воображении и существуют только в мысли, языке или дискурсе» [10, с.11].
Констатируя, что «оно было», факт не проясняет сути события. Вынести то или иное суждение по поводу события на основании фактов о нём – прерогатива историка. Исключительно важной представляется мысль о том, что «человек постоянно стремится “семиологизировать”… жизнь и действительность, превратить их в поддающийся прочтению “текст” … “Семиологическое” отношение к миру неизбежно уже в силу одного того, что интерпретация событий жизни даёт человеку опыт и возможность на основе имеющихся данных предвидеть будущее. Понять смысл события, значит восстановить его реальные и потенциальные связи в релевантном для него контексте жизни, т.е. в конечном счёте, превратить его в некоторое множество фактов» [2, с.178]. Близость фактов и событий определяется их общей включённостью в семиотический контекст.
Какие события, рассыпающиеся на «некоторое множество фактов», отражают жизнь отдельного человека, целой нации, всего мира? Какие огромные пласты реальности должны подлежать фиксации, чтобы получить полное отражение жизни? На одно и то же событие можно взглянуть и, соответственно, интерпретировать, по-разному. «…Область “исключённого” не только огромна, но и подвижна. Можно было бы составить интересный перечень “не-фактов” для различных эпох» [5, с.336]. Понятно, что историк, рассказывающий и анализирующий многовековую историю народа, может счесть необходимым осветить одну из сторон определённого события. Вопрос состоит не только в том, о каких событиях рассказать читателю, но и в том, на какие аспекты этого события следует обратить внимание.
Исторический процесс, осознаваемый как совокупность фактов, не сводится к нему. Установлением значения фактов и занимается история. Особенность нарративного дискурса состоит в наделении фактов и их совокупностей статусом события.
Очевидно, что огромная совокупность исторических фактов подлежит разграничению и все факты можно, так или иначе, отнести к определённому типу. Разные исследователи предлагают свои типологии исторических фактов, при этом один и тот же факт нередко находится на пересечении типологий и может быть классифицирован с точки зрения каждой из них. Представляется особо важным тот момент, что за фактами стоят события, которые могут быть рассмотрены как эпизоды глобальной или тотальной истории.
В своё время Е.Топольский, обосновывая понятие диалектического факта, представил его как сложную реконструкцию связей данного события с другими и приобретающую смысл и значение только в общей структуре исторического познания [6, c.204]. Е.Топольский говорит о простых и сложных фактах; простые факты становятся структурными элементами сложных. «Простоту» или «сложность» факта определяет структура познаваемых событий, т.к. один и тот же факт можно считать как простым, так и сложным, в зависимости от ракурса исследования, угла зрения. Этот взгляд коррелирует с тем положением, что события и факты принадлежат глобальной либо локальной истории. Простые факты могут вписываться в контекст локальной истории, сложные – в контекст глобальной. Категорическое решение на этот счёт возможно далеко не всегда, так как оно зависит от того, решению каких исследовательских задач служат те или иные факты. Соотнесённость события с глобальной или локальной историей относительна, это зависит от точки отсчёта: оно может считаться глобальным событием для истории России, но быть событием локального характера с точки зрения мировой истории как истории глобальной.
События «Истории России с древнейших времён» С.М.Соловьёва не являются семиотически равноценными. Часть их связана с глобальной историей и вписывается в её структуру, другие события являются событиями локальной истории, раскрывающие глобальную в её частностях. Исследование текста «Истории…» С.М. Соловьёва показывает, как семантические ряды разных уровней, связанные с глобальной и тотальной историей, репрезентируют их взаимодополнительность.
Анализируя точки зрения на то, каким должен быть идеальный исторический нарратив, Ф. Анкерсмит писал: «Некоторые авторы утверждают, что нарратив можно сравнить с картой: как нам не нужна карта, на которой отмечена каждая травинка, так нам не нужны и нарративы, в которых упоминаются самые незначительные подробности прошлого… мы ожидаем, что историк расскажет нам только о том, что было важным в прошлом, а не обо “всём прошлом“ [1, с.82]. Но при таком ходе рассуждения вновь встаёт вопрос о том, чтό каждый историк считает важным, а чтó нет. Круг замыкается, потому что важнейшим моментом проблемы семиотизации исторических событий и является позиция историка, который сам решает, каким фактам придать статус события. Исходя из этой точки зрения, можно констатировать, что С.М. Соловьёв отдаёт предпочтение использованию огромной массы эмпирического материала и не игнорирует мельчайших фактов, но, в то же время, текст учёного отражает модель картины мира его автора, включающую не только фактографическую информационную составляющую, но и субъективные смыслы, передающие информацию об отношении автора к объекту описания.
Можно выделить определённую иерархию фактов и событий, регулярно отмечаемых историком в ряду других. Будучи включёнными в большую нарративную историю, они в то же время вписываются в парадигматическое порождение исторического дискурса за счёт того, что многие из них лежат в «археологически» глубоких пластах исторического исследования.
Историк уделяет огромное внимание незначительным, казалось бы, событиям и атрибутам повседневной жизни, экономическим или военным событиям локального характера и пр. Рассказ о каждом из них становится «клеткой» цельного организма исторического текста.
Учёный углубляется в такие частности, настолько детализирует повествование, что действительно, говоря словами Ф. Анкерсмита, в поле зрения попадает каждая «травинка» русской истории. К примеру, характеризуя рост государственных издержек, историк не ограничивается констатацией факта, но приводит цифры, дающие представление о размерах конкретных расходов только одного из министров, Матвеева, вплоть до расходов на дрова (1000 гульденов в год), мытьё платья (200), освещение (500), на десять лошадей (2600) и т.д. [8, с.68]. Можно спорить о том, есть ли необходимость в подобной дотошности, но именно это и составляет особенность «Истории…» С.М.Соловьёва, это и сделало её мегаэнциклопедией русской исторической жизни.
Локальная история раскрывает глобальную в её частностях. Разворачивание глобальной истории как совокупности локальных микроисторических событий демонстрирует повествование «Истории России с древнейших времён», в котором взгляд историка фокусируется на всё более частных фактах, событиях, процессах. С.М. Соловьёв предельно конкретизирует исследование, наделяя статусом события огромное количество незначительных, с точки зрения глобальных процессов, фактов. Так, рассказ о событиях «эпохи преобразований» содержит не только описание глобальных, традиционно ожидаемых событий, таких, как Стрелецкий бунт, основание Балтийского флота, учреждение Сената и других. Семантически значимыми для историка становятся любопытные и для нас детали повседневности: « В 1718 году запрещено было ввозить в Москву заграничные чулки, позволено было продавать только чулки московской фабрики француза Мамвриона» [8, с.460]. Подобная тактика построения исторического повествования подтверждает мысли В. Шмида, высказанные им при анализе особенностей строения и способов исследования нарратива. В. Шмид обращается ко взглядам Г. Зиммеля, к работам которого восходит понятие «смысловая линия» и противопоставление «события» «истории». Производя отбор элементов для повествования (ситуаций, лиц и пр.), нарратор как бы пролагает сквозь нарративный материал «смысловую линию», выделяющую одни элементы и игнорирующую другие. «По Зиммелю, историк должен проложить “идеальную линию” сквозь бесконечное множество “атомов” определённого отрывка мировых событий, чтобы получить такие историографические единицы, как “Семилетняя война” или “Цорндорфская битва”. Проложению “идеальной линии” предшествует абстрактное представление о том, что значимо для данной историографической единицы и что нет. Если исторические события отличаются “непрерывностью”…, то история, по необходимости, является “прерывной” [11, с.163].
Описание сценических представлений, введённых Петром, подробный рассказ о народных фантазиях о «подмене» царя и многое другое есть не что иное, как фиксация событий повседневности, приобретших знаковый характер в свете преобразований Петра и отношения к ним.
Отбирая факты, С.М. Соловьёв дорожит мельчайшими деталями бытовой повседневности, что способствует феноменологическому «переживанию предметности»; в то же время, значимость многих событий создаёт предпосылки для рефлексии над ними и выход за пределы собственно нарратива.
При анализе текста «Истории России…» С.М. Соловьёва обращает на себя внимание удивительное осмысление им того факта, что «и в платье выражается известное историческое движение народов» [7, c.100]: европейское человечество, стремясь к новой деятельности, «подбирает, обрезывает полы своего длинного … платья, и наш фрак (пусть называют его безобразным) есть необходимый результат и знамение этого стремления. …Вопрос стоял в том: к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение этой семьи» [7, с.101].
Поразительно осознание С.М. Соловьёвым знаковости одежды и внешнего вида. Лингвистическая реализация этого осознания, используемые им слова знамя, знамение в отношении наружности и одежды идеальны для обобщения смысла происходящих перемен. «Он не откажется в угоду им от этой деятельности, напротив, он ее усилит … он готов к борьбе на жизнь и на смерть, он возбужден, он кипит, первый пойдет напролом, он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его: это знамя – борода, это знамя – старинное длинное платье» [7, с.549].
С.М. Cоловьёв понял, что одежда и наружность как темы повседневности приобретают особую значимость в контексте преобразований, проводимых предшественниками Петра и им самим. Своими размышлениями и выводами о значении преобразований наружности С.М. Соловьёв предвосхитил будущие исследования; то, о чём говорил историк, фактически повторено в других терминах через 130 лет после него; в этом случае мы видим определённый «проброс к исследованиям ХХ века», по выражению К.Э. Штайн [12, с.27].
Д.С. Лихачёв считал, что «Петру бесспорно принадлежит смена всей «знаковой системы» Древней Руси. Он переодел армию, переодел народ, сменил столицу … сменил церковнославянский шрифт на гражданский … Закономерным был разрыв и во всей средневековой «знаковой системе» культуры, произведённый Петром. Переход до него – неосознанный, теперь стал осознанным. Осознание перехода и заставило сменить «систему знаков»: надеть европейское платье, новые мундиры, «скоблить» бороды … И эта смена «знаковой системы» ускорила развитие новых явлений в культуре» [4, с.94].
По мнению С.М. Климовой, «… в традиционной отечественной культуре борода играла роль семиотического кода опознания принадлежности «русскому», «православному» и «святому» в противоположность «чужеземности»… и «еретичеству». … Петровские указы о брадобритии стали результатом инверсии традиционных семиотических смыслов. Теперь борода становится знаком принадлежности к « старому » (ретроградному), и все прежние черты … явно или неявно обрастают отрицательными коннотациями. … Безбородость же, напротив, становится семиотическим кодом, указывающим на человека новой формации … Природа знака амбивалентна, и один и тот же знак можно представить как воплощение противоположных установок культуры» [3, с.63].
Известно, какое ожесточённое противодействие, острую конфликтную ситуацию создало желание Петра «потоптать знамя» противника; конфликтные ситуации особенно показательны тем, что они становятся результатом столкновения разных языков по отношению к одной и той же действительности, в конфликтах обнаруживается диаметрально противоположное восприятие одних и тех же событий. В крайних случаях возможна ситуация, когда отправитель и получатель сообщения по существу пользуются разными языками при одних и тех же внешних средствах выражения. Собственно, это и произошло, когда отправитель сообщения в лице Петра и получатель сообщения в лице общества пользовались различными языками, что вело к, безусловно, отрицательной оценке широкими массами инициатив Петра. В этом состоит «семиотическая подоплёка» неприятия перемен в одежде, что и уловил С.М. Соловьёв. Историк осознал смысл и значение культурных символов петровской эпохи и породившего их социокультурного контекста.
Развивая мысли по поводу знаменитого брадобрития и перемены платья, С.М. Соловьёв делает исключительной важности замечание, лежащее уже в области рефлексии над событиями и трудом историка: «Историк не может отделаться от этого вопроса, указавши на его незначительность; не может сказать: занимаясь изучением такой громадной, важной деятельности, стоит толковать о бороде и платье? Стоит толковать, как стоит толковать о всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого творчества» [9, с.104].
В знаменитых «Публичных чтениях» С.М. Соловьёв, упоминая о фраке, отмечал: «Историк не станет спорить с художником относительно красоты или безобразия; но его обязанность указать на смысл явления» [9, с.106]. Таким образом, когда С.М. Соловьёв сравнивает деятельность художника и историка, он переключает свой текст в сферу философских обобщений, имея в виду суть явления, то есть выражение в нём сущности, которая представляет внутреннее содержание предмета. Формула С.М.Соловьёва, выраженная словосочетанием «смысл явления», охватывает все элементы значения, присущие глубоким философским понятиям: «смысл», «явление», «сущность».
В своих оценках мер, предпринимаемых Петром в русле программы преобразований, С.М.Соловьёв показал, что история предполагает определённую семиотизацию действительности – превращение не-знака в знак, не-истории – в историю. Семиотический статус происходящих событий состоит в том, что они определённым образом проецируются на будущее, становятся причинами других событий. Прошлое видится в перспективе актуальных событий настоящего, определение знакового характера исторических событий и реалий составляет сущность семиотического подхода к истории.
Список литературы Одежда и наружность как темы повседневности в историческом нарративе С.М. Соловьёва
- Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков/Ф. Анкерсмит; пер. с англ. О. Гавришиной, А. Олейникова. -М.: Идея-Пресс, 2003. -360 с.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт/Н.Д. Арутюнова. -М.: Наука, 1988. -341 с.
- Климова С.М. Русская интеллигенция: маятник бинарного сознания/С.М. Климова//«Человек». -2006.-№3. -С. 62-71.
- Лихачёв Д. С. Была ли эпоха Петровских реформ перерывом в развитии русской культуры?/Д.С. Лихачёв//Изучение культур славянских народов. -М., 1987. С. 92 -95.
- Лотман Ю.М. Семиосфера/Ю.М. Лотман. -С.-Петербург.: «Искусство -СПБ», 2000. -704 с.
- Ракитов А. И. Историческое познание: системно-гносеологический подход/А.И. Ракитов.-М.: Политиздат, 1982. -303 с.
- Соловьёв С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. T. 13-14. История России с древнейших времён. -М.: Мысль, 1991. -701 с.
- Соловьёв С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VIII. Т. 15-16. История России с древнейших времён. -М.: Мысль, 1993. -639 с.
- Соловьёв С. М. Избранные труды. Записки. -М.: Изд-во МГУ, 1983. -440 с.
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в./Х. Уайт. -Екатеринбург, 2002. -528 с.
- Шмид В. Нарратология/В. Шмид. -М.: Языки славянской культуры, 2003. -312 c.
- Штайн К.Э. Язык современной исторической науки. Семиотический анализ исторического текста. Учебное пособие/Штайн К.Э., Бобылёв С. Ф., Петренко Д.И.; под ред. Э.П. Лаврик. -Ставрополь.: Изд-во СГУ, 2006. -547 с.