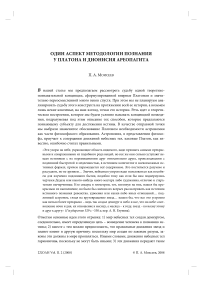Один аспект методологии познания у Платона и Дионисия Ареопагита
Автор: Моисеев Петр Алексеевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
П. А. Моисеев (Пермский институт искусства и культуры) рассматривает судьбу одной теоретико-познавательной концепции, сформулированной впервые Платоном и значительно переосмысленной много веков спустя, которую автор предлагает назвать концепцией возведения, подразумевая под этим описание тех способов, которые предлагаются познающему субъекту для достижения истины. В статье показано, что Платон относит свою концепцию возведения исключительно к познанию мира идей, а Ареопагит - к богопознанию. Создавая свою концепцию возведения, Дионисий синтезирует платоновскую мысль о созерцании чувственного мира как «трамплине» для познания мира сверхчувственного с пифагорейско-платонической концепцией символа. Как следствие, у первого результатом возведения оказывается знание сути этого мира (поскольку мир идей дает нам подлинное знание о космосе), у второго человек возводится к такому знанию, которое как бы отменяет знание о мире.
Богопознание, идеальный мир, платонизм, христианская теология, истина, восхождение к божественному
Короткий адрес: https://sciup.org/147103263
IDR: 147103263
Текст научной статьи Один аспект методологии познания у Платона и Дионисия Ареопагита
Отметим основные идеи этого отрывка: 1) мир небесных тел создан демиургом, следовательно, имеет определенную цель – возведение человека к познанию истины; 2) вместе с тем можно предположить, что правильные движения звезд и планет имеют и другую причину: поскольку мир создан по законам разума, законы эти должны в мире проявляться. Иными словами, движения небесных тел гармоничны, поскольку не могут быть иными; 3) эти движения передают такие
ΣΧΟΛΗ Vol. II. 2 (2008)
черты истины, как гармония, правильность, разумность; 4) астрономия находится в близком «родстве» с математикой, поскольку математика помогает усвоению таких вечных идей, как идеи равенства, удвоения и т. п.; 5) истина, на которую указывают небесные тела, представляет собой мир идей.
Вместе с тем обратим внимание на то, что мир небесных тел не тождественен всему материальному миру. Это именно мир правильных пропорций, чего нельзя сказать о мире вещей. Отношение Платона к этому последнему ясно видно в знаменитом сравнении с пещерой ( Государство 514 a – 515 b).
Нетрудно заметить корреляцию, существующую между этими двумя идеями: отправной пункт восхождения к истине выбирается очень тщательно и как бы в порядке исключения: совсем никакой связи между миром идей и миром вещей быть не может, поскольку в таком случае мир вещей просто не мог бы существовать. Но ввиду различия между этими двумя мирами поистине совершенным в мире вещей не может быть названо ничто. Поэтому de facto Платон вводит третий мир, в который, наряду с астрономическими объектами, входят математические. Звезды и планеты выводятся за рамки мира вещей и объявляются максимально совершенными из всего чувственно воспринимаемого.
Нас не будет интересовать вся платоническая традиция и развитие в ней этого комплекса идей. Мы бегло коснемся того периода, когда платонизм начинает влиять на иудаизм, а впоследствии – на христианство. Одним из первых платоников (да и вообще одним из первых философов) в этом ряду был, как известно, Филон Александрийский. Влияние платонизма и греческой философии на его систему трудно не заметить, хотя о степени этого влияния ведутся споры. Так или иначе, мы коснемся лишь отражения уже описанной концепции в трактате Филона «О сотворении мира согласно Моисею», толкующему начало книги Бытия в платоническом духе. Именно в таком ключе Филон трактует и упоминание о сотворении звезд, останавливаясь на назначении светил (обстоятельство тем более примечательное, что сам библейский текст не вынуждает Филона к этому):
«Ибо зрение, возведенное светом ввысь и узревшее природу звезд и согласованное их движение, упорядоченные круговращения блуждающих [небесных тел], из которых последние движутся однообразно по одним и тем же путям, а другие – не подобно и противоположно [друг другу] двойными круговращениями, и [узревшее] их стройные хороводы, упорядоченные по совершенным законам мусического искусства, – [зрение] стало доставлять душе несказанную радость и наслаждение. И та, вкушая от непреходящих зрелищ – ведь за одним следовали другие, – возымела великую жажду созерцания. Затем, словно пылая любовью, она стала допытываться, какова же сущность сих видимых, вечные ли они или получили начало своего бытия, каков образ их движения и каковы причины, вследствие которых каждое устрояется. Из исследования их возник род философии, совершеннее которого не было иного блага в жизни людей» ( О сотв. мира 54; пер. А. В. Вдовиченко).
Очевидно, что данную платоническую концепцию Филон заимствует практически без изменений: толчком к познанию становится, по его мнению, гармония звездного мира, вместе с тем эстетический фактор имеет чисто рационалистическую природу. Суть гармонии – ее разумность и соразмерность, как следствие познание ограничивается исключительно рациональной сферой души человека (как известно, у Филона, также вслед за Платоном, высшей частью души является по-прежнему разумная часть), а высшей формой познания является философия – довольно странное заявление, если учесть религиозную тематику текстов Филона.
Вместе с тем Филон не просто повторяет Платона. В процитированном нами трактате содержится также высказывание, на наш взгляд, несколько усложняющее ситуацию:
«Начало <книги Бытия. – П. М.> же, как я сказал, в высшей степени удивительно, поскольку содержит [описание] сотворения мира, при этом, поскольку мир созвучен закону <Моисея. – П. М.> и закон миру, [получается так, что] муж законопослушный, будучи гражданином этого мира, исполняет в своих деяниях повеление природы, которая и лежит в основании устроения всего мира» ( О сотв. мира 3).
Эту фразу можно истолковать в нескольких смыслах. Бесспорным является то, что книга Бытия является предельно адекватным описанием мироздания и даже чем-то большим, нежели просто описанием (коль скоро ей созвучен мир). 1) Под природой, лежащей в основании мира, может подразумеваться Бог. 2) Или же речь может идти о какой-то другой природе – например, о мире идей. Как бы то ни было, по сравнению с платонизмом здесь налицо перестановка акцентов. У Платона мир вещей не может существовать без мира идей, но разрыв между ними слишком велик; Платон гораздо охотнее констатирует дисгармонию, царящую в мире вещей, отклонения от порядка. Филон, при всей своей любви к Платону, все же толкует ветхозаветный текст. Поэтому он волей-неволей признает большую гармоничность земного мира, в основе которого лежит «природа», а мир ей, в общем и целом, соответствует. Однако Филон нам важен лишь как первый опыт рецепции платонизма иудейской философией, повлиявший и на христианских мыслителей.
С другой стороны, прежде чем говорить о христианской концепции возведения, надо упомянуть еще одну важную концепцию – концепцию символа, в том виде, в котором она была сформулирована опять же в платонической традиции. О роли символа в платонизме и пифагореизме писали многие античные авторы. Вот что, к примеру, говорит Плутарх в трактате «Об Изиде и Осирисе»:
«[гиерофоры и гиеростолы] несут и укрывают в душе, как в ларце, священное слово о богах, чистое от всякого суеверия и суетности, приоткрывая лишь некоторые части своего учения, то окутанные мраком и затененные, то ясные и светлые, как те символы, что явлены в священных одеяниях… Ибо истинным служителем Исиды является тот, кто всегда по правилам воспринимает все, что говорят о богах и что во имя их совершают, исследуя это разумом и рассуждая о заключенной в этом истине. Однако большинству людей непонятны даже такие самые общеизвестные и незначительные правила: почему жрецы удаляют волосы и носят льняные одежды. Некоторые вообще не заботятся знать это… Но истинная причина для всего этого одна: не дозволено, как говорит Платон, нечистому касаться чистого. Отходы же и отбросы не чисты и не почтенны, а принадлежащие отходам шерсть, пух, волосы и ногти рождаются и растут» (3–4, 352 В–D; пер. Н. Н. Трухиной).
Сравним со словами Ямвлиха из трактата «О Пифагоровой жизни»:
«Он [Пифагор. – П. М.] считал, что воздействие на людей сначала осуществляется посредством чувств; если кто-либо видит прекрасные образы и формы или слушает прекрасные ритмы и песни, то такой человек начинает музыкальное образование с мелодий и ритмов, от которых излечиваются человеческие нравы и страсти и устанавливается первоначальная гармония душевных сил. Он также придумал средства сдерживать и исцелять болезни души и тела. И, клянусь Зевсом, еще более достойно упоминания то, что он для своих учеников упорядочил и привел в систему так называемые настройки и аранжировки, с божественным искусством придумав сочетания диатонических, хроматических и энгармонических созвучий. С их помощью он легко изменял и приводил в противоположное состояние страсти души, если они только что беспорядочно возникли и усилились (печаль, гнев, жалость, глупую зависть, страх, различные влечения, приступы ярости, желания, чувство превосходства, приступы лени, горячность)» (XV 66; пер. И. Ю. Мельниковой).
Налицо любопытное соотношение концепций: у Платона мир идей скрыт в силу своего превосходства над миром вещей. Но, с другой стороны, путь к нему открыт: достаточно, например, начать всматриваться в движения небесных тел или изучать математику и музыку. У Плутарха, напротив, высший мир нуждается в зашифровке посвященными, которые стараются замаскировать путь духовного восхождения символами. Ямвлих же акцентирует пропедевтическую функцию символов, сближая их, кстати, с воздействием музыки, т. е. возвращаясь к платонизму. Но Плутарха и Ямвлиха объединяет следующая важная черта: с их точки зрения, «возводящий» текст создается людьми, уже владеющими истиной, и предназначен для простецов. «Текст» небесных тел у Платона создан демиургом для всех людей и является, по-видимому, более значимым (ибо символы пифагорейцев явно вторичны относительно астрономических явлений). Таким образом, символика пифагорейцев и поздних платоников играет достаточно подчиненную роль и, кроме того, направлена не только на приуготовление души к восхождению, но и на сокрытие истины от тех, кто не готов ее воспринять.
Значительным образом концепция возведения меняется в христианской философии. Итогом раннехристианской философии (в частности теории познания), испытавшей, как известно, мощное влияние неоплатонизма, является система Дионисия Ареопагита. В том, что для него эта концепция немаловажна, легко убедиться, открыв корпус «Ареопагитик» почти на любой странице. Характерным является, например, такое высказывание философа:
«…Совершенноначальное Священноустановление, удостоив нашу преподобнейшую иерархию быть надмирным подобием небесных иерархий и испещрив упомянутые невещественные иерархии материальными образами и сочетаниями форм, предоставило нам соразмерно себе подниматься от священнейших выдумок до простых и без- образных возведений и сопоставлений, поскольку невозможно нашему уму возвыситься до этого невещественного подобия небесных иерархий и их созерцания, если он не воспользуется соответствующим ему вещественным руководством, понимая, что прекрасные явления суть отображения невидимого благолепия, и воспринимаемые чувством благоухания – отпечатки распространения умопостигаемого, и материальные светы – образы невещественного светодаяния, и обстоятельные священные поучения – способ свойственного уму насыщения созерцанием, и чины здешних порядков – отражения гармоничного с божественным свойства упорядоченности, причастие в божественнейшей евхаристии – символ приобщения Иисусу; и все иное дано небесным существам надмирно, а нам образно» (О небесной иерархии I, 3, 121 c–124 a; пер. Г. М. Прохорова).
Прежде чем комментировать этот отрывок, укажем, что сопоставление концепции возведения в платоновском и ареопагитовом вариантах имеет одну сложность. Когда мы говорим о возведении по Платону, речь идет о восхождении к умопостигаемому миру, к миру идей, высшей из которых является идея блага. У Дионисия возведение подразумевает восхождение к Богу. В космологии Платона Бог (демиург) также присутствует, но роль его чисто служебная, а подлинной целью познания выступает именно мир идей. У Дионисия любое творение (точнее любая его часть) является по определению менее интересной и значимой, чем Бог, поэтому при восхождении к Богу все аспекты тварного мира принимаются во внимание лишь постольку, поскольку они содержат божественный свет.
Что же касается идеи блага, то хотя она и венчает собой мир идей, но стремление к ней мало обособляется Платоном от стремления к созерцанию мира идей в целом. Во всяком случае, как надлежит восходить конкретно к идее блага, у Платона остается не вполне ясным; можно предположить, что познание блага явится итогом познания мира идей, но подробных разъяснений философ не дает.
Эти поправки касаются самого объекта восхождения; перейдем теперь к различию в способе восхождения к истине, что, разумеется, связано с различным пониманием истины.
В этом отношении с платоновской концепцией Дионисия объединяет разве что телеологизм. В обоих случаях возведение является частью Промысла: по Платону, созерцание светил может принести пользу, поскольку именно такие движения звезд и планет соответствуют замыслу демиурга. У Дионисия к познанию истины возводят уже не астрономические наблюдения, а истолкование библейских и богослужебных символов. Это сближает его подход с пифагорейским, где также речь идет не о «природном» тексте, а о символах, функционирующих исключительно в культуре. С другой стороны, Ареопагит настаивает на том, что эти символы не созданы человеком. По сравнению с Платоном, телеологизм Дионисия проявляется еще более отчетливо, поскольку функция светил не сводится к возведению, чего нельзя сказать о религиозной символике. Наконец, по сравнению с Плутархом и Ямвлихом символы у Ареопагита играют более важную роль: менее важна функция сокрытия, и ни в коем случае нельзя сказать, что в «Ареопагитиках» задача символов носит лишь пропедевтический характер.
Далее: по сравнению с пифагорействующими платониками, у Дионисия действие символов прописывается более подробно и, как можно предположить, носит более серьезный характер: Ямвлих говорит о том, что символы подготавливают человека к восприятию истины, но не объясняет, в чем эта подготовка заключается. У Ареопагита сказано, что с их помощью подобает возвыситься до определенной степени простоты. Между тем, простота души, по Дионисию, есть существенная ее черта; ее обретение можно назвать приготовлением лишь по отношению к достижению еще более высокой духовной ступени, но и само оно является очень важным этапом.
По сравнению же с Платоном телеологизм ослабляется еще и следующим обстоятельством: с одной стороны, движения небесных тел суть результат деятельности демиурга, с другой – эти движения отражают вечное бытие (мир идей); как соотносятся эти два причинных ряда, у Платона не прописано с достаточной степенью четкости, и мы, по крайней мере, вправе счесть телеоло-гизм этой концепции ограниченным.
Этот же аспект концепции (в обоих ее вариантах) можно рассмотреть под следующим углом зрения: по Платону, восхождение к истине путем наблюдения за светилами связано с вычленением главного в природном явлении (в движениях небесных тел таким главным оказывается их, движений, правильность) и осознании всеобщего характера этого главного (правильность, гармония представляют собой одну из основных характеристик мира идей). У Дионисия речь идет не о наблюдении за природным миром и определением наиболее существенных его черт, а об интерпретации текста, созданного исключительно ради самого этого процесса истолкования его человеком.
Однако нельзя сказать, что платоновская идея, возведения к истине через созерцание окружающего мира, была полностью оставлена Ареопагитом. Хотя восхождение через посредство библейских и литургических символов играет первостепенную роль, концепция восхождения не ограничивается у Дионисия только этим моментом. Не столько даже отзвук платоновской мысли, сколько параллель с ней мы находим в концепции богоявлений Дионисия. Как известно, Бога, по Ареопагиту, можно именовать разными именами, поскольку Ему в той или иной мере причастно все сущее. Как следствие, имена сущего суть имена Бога:
«Поскольку же, будучи бытием Благости, самим фактом своего бытия Она [Богоначальная сверхсущественность] является причиной всего сущего, благоначальный промысел Богоначалия следует воспевать, исходя из всего причиненного Им, потому что в Нем – все и Его ради, и Он существует прежде всего. И все в Нем состоялось, и Его бытие есть причина появления и пребывания всего, и Его все желает… Зная это, богословы и воспевают Его и как Безымянного, и как сообразного всякому имени. Он безымянен, говорят, потому что Богоначалие сказало в одном символическом богоявлении из разряда таинственных видений… Многоименен же Он потому, что при этом Его представляют говорящим: “Я есмь Сущий”, “Жизнь”,
“Свет”, “Бог”, “Истина”, и в то же время те же самые богомудры воспевают Причину всего, заимствуя имена из всего причиненного Ею…» ( О божественных именах I 5; 593 d – 596 a).
Обратим внимание на то, как мысль Платона переосмысливается здесь Дионисием (если вообще данная концепция восходит к платоникам): у Платона речь идет о наблюдении за отдельными частями мироздания (в данном случае – за небесными светилами), причем характеристики истинного бытия, которые надлежит вывести из этих наблюдений, четко формулируются философом уже при постановке задачи. У Дионисия созерцание любой части мироздания уже может привести к познанию Бога. Но при этом характеристики Бога многообразны и не подлежат каталогизации; тот список божественных имен, который приводит Дионисий в одноименном трактате, является закрытым постольку, поскольку Ареопагит рассматривает лишь имена, прилагаемые к Богу в Библии.
Платон же, напомним, подчеркивал, что в мире идей господствуют законы разума и гармонии. Дионисием этот тезис не отвергается, но и не развивается. Коль скоро Бог все превышает, даже такие предикаты, как гармония, разумность, красота и проч., будут приложимы к нему лишь отчасти. Идеал Платона, по сравнению с дионисиевым, слишком «правильный»; Ареопагит, перечисляя проявления Бога в мире, уже самой длиной списка божественных имен и его открытым характером демонстрирует несводимость этих имен к единому знаменателю. Гармония, разум, красота суть проявления Бога, но у нас нет основания называть их главными (по сравнению, например, с бытием или жизнью).
Отметим также, как меняется сам принцип перехода от земных реалий к небесным: у Платона переход от астрономии к философии необходим , потому что звезды и планеты существуют в соответствии с некими универсальными законами бытия и, познав эти законы (или некоторые из них), мы получаем некоторое представление о мире подлинно сущего. У Дионисия, во-первых, место наиболее общих законов мироздания (воплощаемых миром идей) занимает Бог, т. е. Личность. Во-вторых, переход от любой части мироздания к бо-гопознанию допустим , так как в любом сущем можно найти как бы «след» Бога. Сами по себе области космоса, из которых мы берем божественные имена, не понуждают нас с необходимостью умозаключать о существовании Бога. Но, будучи уверенным в бытии Бога, познающий может до некоторой степени судить о нем на основании Его творения. Сходство с Платоном остается: мир идей не может не проявляться в космосе – иначе космос не сможет существовать; так же и Бог, поскольку Он поддерживает существование мира, обнаруживает Себя в нем.
Указанные различия отражают одну важную черту концепции Дионисия: необходимость перехода от созерцания космоса к созерцанию истинного бытия (у Платона) указывает на то, что мир идей содержит в себе суть космоса, раскрывает его значение. У Ареопагита знание Истины (то есть Бога) более независимо от познания мира; оно ничего не прибавляет к познанию нами ми- ра вещей, а представляет собой, если можно так выразиться, «главное» знание, на фоне которого все остальное знание блекнет (по крайней мере, так можно интерпретировать мысль Дионисия).
Итак, Платон относит свою концепцию возведения исключительно к познанию мира идей, Ареопагит – к богопознанию. Как следствие, у первого результатом возведения оказывается знание сути этого мира (поскольку мир идей дает нам подлинное знание о космосе), у второго человек возводится к такому знанию, которое как бы отменяет знание о мире.
Можно сказать, что Дионисий, создавая свою концепцию возведения, синтезирует платоновскую мысль о созерцании чувственного мира как «трамплине» для познания мира сверхчувственного с пифагорейско-платонической концепцией символа. При этом обе этих концепции у Ареопагита оказываются сильно модифицированными.
Разумеется, Дионисий не может быть изолирован от своих предшественников и современников; отличие его концепции возведения от аналогичных построений Платона – это, в том числе, и отличие одной эпохи от другой; общеизвестно, что последние века античности, равно как и византийский период, – это время гораздо более тесной связи религии (необязательно христианской) и философии. Некоторые элементы ареопагитовой концепции возведения можно найти и у других философов первых веков христианской эры. Для нас, как уже указывалось, в данном случае важны опорные точки в судьбе концепции, которые мы и постарались выявить.
Список литературы Один аспект методологии познания у Платона и Дионисия Ареопагита
- Дионисий Ареопагит (2002) Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. Пер. Г. М. Прохорова (Санкт-Петербург)
- Плутарх (2006) Исида и Осирис (Москва)
- Филон Александрийский (2000) Толкования Ветхого Завета (Москва)
- Ямвлих (2002) О Пифагоровой жизни. Пер. И. Ю. Мельниковой (Санкт-Петербург)