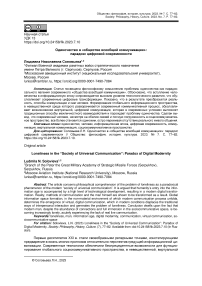Одиночество в "обществе всеобщей коммуникации": парадокс цифровой современности
Автор: Соловьева Л.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философскому осмыслению проблемы одиночества как парадоксального явления современного «общества всеобщей коммуникации». Обосновано, что вступление человечества в информационную эпоху сопровождается высоким уровнем технологического развития, что обусловливает современные цифровые трансформации. Показано, что в результате преобразуется реальность, способы коммуникации и сам человек. Формирование глобального информационного пространства, в невещественной среде которого разворачивается современный коммуникативный процесс, обусловливает возникновение виртуальной, цифровой коммуникации, которая в современных условиях вытесняет традиционные способы межличностного взаимодействия и порождает проблему одиночества. Сделан вывод, что современный человек, несмотря на обилие связей и полную погруженность в социокоммуникативное пространство, все более становится одиноким, остро переживая отсутствие реального живого общения.
Одиночество, человек, информационная эпоха, цифровая современность, коммуникация, виртуальная коммуникация, социокоммуникативное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149144036
IDR: 149144036 | УДК: 13 | DOI: 10.24158/fik.2023.7.10
Текст научной статьи Одиночество в "обществе всеобщей коммуникации": парадокс цифровой современности
,
2Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia ,
среде которого процесс общения протекает непрерывно и бесперебойно. Глобальная сеть Интернет сегодня стала той новой коммуникативной реальностью, которая связала воедино все человечество планеты. Мир действительно превратился в «глобальную деревню» (Маклюэн, 2005), социум – в «общество всеобщей коммуникации» (Ваттимо, 2003), одновременно при этом являясь и постиндустриальным, и информационным, и сетевым, и технотронным, и постмодернистским и т.д., а человек, как бы это не выглядело парадоксально, – стал одиноким. Для суперкоммуникативного общества начала третьего тысячелетия пророческими оказались строки русского поэта Алексея Маркова: «Страшнее нету одиночества, чем одиночество в толпе»1, высказанные им в последней трети ХХ в., в которых, как оказалось, зафиксирована одна из ключевых социально-философских проблем современности.
Современный человек оказался заложником противоречивой ситуации: с одной стороны, уровень технологического развития высок настолько, что обеспечивает беспрепятственную коммуникацию не только на планете, но и в пределах околоземного пространства, нивелируя временные, географические, национально-государственные и даже социокультурные барьеры; с другой стороны, эти же технологии, несмотря на массовость, общедоступность и глобальный эффект, делают человека заложником его персонального цифрового устройства и, как следствие, одиноким. Попытка философского осмысления одиночества как парадоксального явления информационной современности является целью данной статьи.
Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции классиков философии (Ваттимо, 2003; Лиотар, 2007; Луман, 2012 и др.), а также современных зарубежных и отечественных философов (Гоноцкая, 2013; Ланье, 2020; Макафи, Бриньолфсон, 2019; Шерри, 2021; Орлов, 2016 и др.), что позволило составить представление о состоянии научной разработанности исследовательской проблематики, ограничить предметные рамки исследования, а также определить его теоретико-методологический инструментарий. Методологический базис составили системный, социокультурный, полипарадигмальный и междисциплинарный подходы. Благодаря их универсализму удалось осмыслить проблему одиночества современного человека сквозь призму социальных, технологических, культурных детерминант, в плоскости предметных областей разнообразных отраслей гуманитарного знания как многогранную и многоаспектную проблему.
Научное знание и основанные на нем технологии в очередной раз радикальным образом трансформировали социальную реальность и ее субъекты. Масштаб и глубина современных цифровых трансформаций таковы, что они по праву могут знаменовать собой наступление Нового времени 2.0. Как и в предшествующие научно-технические революции, технологии кардинально изменили способы производства, экономику, уклад жизни, общество, культуру, мышление, мировоззрение. Беспрецедентные изменения во всех без исключения сферах общественной жизни обусловлены новыми способами обработки, передачи и хранения информации – цифровыми. При помощи компьютеров и их сетей сгенерировано глобальное информационное пространство – всемирная паутина, сделавшая всю информацию мира общечеловеческим достоянием, упразднившая географические расстояния и государственные границы, объединив все человечество планеты единой сетью. Цифровой становится экономика, деньги; информация выступает фактором общественного развития. Возникает новая форма бытия, присущая современной информационной эпохе – виртуальная реальность (Орлов, 2016). Появляется новый способ присутствия человека в цифровой среде и обусловленная этой онтологией новая форма коммуникации – виртуальная. Происходит конвергенция информационно-коммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта – «объединение разума и машины, продукта и платформы» (Макафи, Бриньолфсон, 2019). Пределы реальности таким образом в значительной степени расширились, дополнились цифровыми компонентами, изменились классические представления о линеарности, устремленности вперед и необратимости времени: в информационном пространстве возможны форматы онлайн и офлайн, одновременность событий; принципиально изменились и способы присутствия в этой новой измененной реальности, и способы предъявления себя через цифровые форматы, посредством которых осуществляется виртуальная коммуникация с другими людьми.
Ключевым модусом онтологии человека является коммуникация. Наличие Другого и возможность взаимодействия с ним являются отправными точками обретения человеческого. Только наличие Другого устанавливает факт существования, демаркирует границы между реальностью и ирреальностью. Как пишет Ж.-П. Сартр, «каждый человек – всегда рассказчик историй, он живет в окружении историй, своих и чужих, и все, что с ним происходит, видит сквозь их призму. Вот он и старается подогнать свою жизнь под рассказ о ней»2. Только слово Другого позволяет вещам оставаться в привычных границах установленного порядка, не допустить абсурда. Робинзон М. Турнье, осмысливая свое одиночество, приходит к такому же заключению: «Другие люди – вот опора существования… <…> Люди помогают осознать масштаб изображения, и, что еще более важно, они представляют разные точки его обзора, как бы позволяют увидеть главное не только с собственной позиции, но и с многих других»1. С утратой социума, живого общения исчезает и само существование. «Одиночество убивает не только смысл вещей и явлений. Оно угрожает самому их существованию»2.
В условиях переформатирования реальности преобразованию подлежат в том числе и способы межличностного взаимодействия, все больше перемещаясь в виртуальные пределы обновленной, расширенной, развеществленной реальности. На первый взгляд кажется, что у современного человека нет проблем, связанных с коммуникацией, наоборот, ощущается даже ее избыточность: он перманентно вовлечен в информационно-коммуникационный поток – «доступен», «на связи», «всегда на связи» и т.д., обменивается сообщениями в мессенджерах, размещает посты, пишет комментарии в социальных сетях, участвует в формах, чатах, очень уверенно и непринужденно чувствует себя у экрана своего цифрового гаджета, зачастую более, чем лицом к лицу с собеседником при живом общении, а последнее все чаще сопровождается одновременным присутствием коммуникантов в виртуальном мире своих цифровых устройств. Таким образом, бытует устойчивое ощущение, что в современной парадигме коммуникации эпохи цифры нет места одиночеству. На первый взгляд, в условиях тотальной коммуникации в глобальном информационном пространстве одиночество невозможно, отождествимо с небытием и означает смерть для субъекта (Гоноцкая, 2013: 63). Однако одинокий человек отнюдь не воспринимает себя как ничто, напротив, он остро чувствует, переживает, испытывает боль, но и может испытывать наслаждение от присутствия наедине с собой. Оказывается, можно испытывать чувство одиночества в «обществе всеобщей коммуникации» при изобилии связей, знакомств, друзей, подписчиков.
Постмодернисты одними из первых указали на угрозы грядущего информационализма и последствия взаимодействия человека с цифровой реальностью: компьютерное отчуждение, одиночество, дезинтеграция, манипуляция, интернет-зависимость и т.д. Именно в рамках постмодернистского толкования социальной реальности возникает представление о ней как о пространстве коммуникации, об обществе как сети – сплетении нитей коммуникации, узлами которой являются индивиды.
Ж. Лиотар трактовал современное общество как сетевое, с отсутствующим единым контролирующим центром, а человек, по мнению мыслителя, в значительной степени погружен в насыщенный, плотный информационный поток, противостоять которому не в силах. В таком сетевом обществе, несмотря на плотность коммуникации в результате процессов атомизации и фрагментации социального, он выключается из форм совместного бытия, выводится из социального поля и становится действительно одиноким (Лиотар, 2007).
Наряду с информационно-коммуникационными технологиями особое значение в формировании новой социальной реальности играют средства массовой информации (Луман, 2012; Ват-тимо, 2003), которые являются агентами разного рода симуляций – реальности, пространства, времени, телесности, коммуникации, информации, смысла, преобразуют современность в постсовременность. Современное общество – это «общество всеобщей коммуникации». Мир средств массовой информации стал глобальным и планетарным, и в то же время он является миром, где центры, способные собирать и передавать информацию на базе унитарного видения, становятся все более многочисленными. Этот плюрализм неизбежно дополняется релятивизмом: ни один из центров не может претендовать на главенство. В условиях триумфа техники и технологий формируется новая научно-техническая цивилизация и новый тип человека – крайне рационализированного, наблюдается ослабление и угасание ценностей гуманизма, утрата многих традиционных корней, что обусловливается преобладанием городского образа жизни, распадом семьи, ослаблением межчеловеческих контактов (Ваттимо, 2003) и в конечном итоге ведет к одиночеству.
С момента появления в 1990-е гг. первых персональных компьютеров, подключенных к Сети, казалось, что цифровые технологии будут способствовать рационализации, оптимизации труда, а также откроют путь к новым удовольствиям, например, в игровой мир, но никто не мог представить, что именно они вытеснят традиционное живое общение, заместив его новым видом коммуникации – виртуальной, цифровой. Трепетно описывает Интернет Я.Л. Вишневский в нашумевшем бестселлере начала 2000-х гг. «Одиночество в Сети»: «Интернет постепенно становился чем-то культовым. Особенно для молодого поколения. Назвать его просто сетью как ничего не значащим переплетением кабелей в банке или учреждении означало бы отнять у Интернета мистическое очарование чего-то, что объединяет вне зависимости от любых разделений»1.
Сегодня в трудоспособный возраст вступило и активно функционирует в социуме уже целое поколение, которое росло со смартфоном, Интернетом, социальными сетями, голосовыми помощниками, гаджетами – так называемое поколение Z (Howe, Srauss, 1991). Опросы показывают, что его представители уже четко не фиксируют разность форматов онлайн и офлайн, для них это единый временной континуум, они не осознают фундаментальную ценность реального общения, первостепенную значимость коммуникации лицом к лицу в формировании полноценных социальных отношений – как межличностных, так и коллективных, в выработке общих решений, в разрешении проблемных ситуаций. Зумеры уже изначально привыкли мало общаться лицом друг к другу, а виртуальная коммуникация в их опыте преобладает над всеми другими видами общения.
Для современного человека новым маркером существования становится «быть на связи», и даже точнее – быть этой связью, узлом коммуникации. Однако современные технологии заставляют людей молчать, «излечивают от устного общения», что в конечном итоге ведет к кризису эмпатии (Шерри, 2021: 19). Исследования показывают, что активное внедрение цифровых коммуникаций способствует активному снижению эмоциональной чувствительности, причем в последние десять лет этот уровень снизился на 40 % (Konrath et al., 2011).
Дж. Ланье, автор термина «виртуальная реальность», в своей новой книге «Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию будут платить вам» также обращает внимание на то, что у современного человека, представителя сетевой культуры, может быть не одна тысяча «друзей», однако он при этом продолжает непрестанно смотреть в маленький экран, находясь в окружении других людей (Ланье, 2020). Его в полной мере устраивает ощущение, что в настоящее время он востребован, является частью происходящего, подтверждением чему выступают постоянные цифровые напоминания, следовательно, складывается реальное ощущение полноценной жизненной насыщенности – событиями, мгновениями. Но это всего лишь ощущение. «У нас был стиль, мы общались, а не в телефонах сидели… было искусство, а не Facebook2 и остальная ерунда», – уместная реплика Мёрфа, героя из последней части легендарной «Матрицы»3, отражающая онтологию эпохи цифры.
Как отмечает Н. Гоноцкая, в целях сохранения социального поля необходимо, чтобы нити коммуникативных отношений не были чрезмерно натянуты и утончены во избежание их полного разрыва и угрозы одиночества; более того, узлы этой сети не должны быть распутанными, так как это угрожает ей распадом, а современному человеку – утратой какой-либо идентичности и превращением в передатчик информации (Гоноцкая, 2013: 105). Корреляция неутешительна: увеличение объема времени виртуальной коммуникации способствует ослаблению нитей взаимоотношений.
Феномен одиночества не так уж и однозначен. Современное «одиночество в толпе» отличается от одиночества в традиционном значении данного термина как особого, острого переживания, как «состояния и ощущения человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения»4. Это страдание от отсутствия Другого, но вместе с тем Другой – ключевой конституант как объективного, так и субъективного, поскольку Другой так или иначе присутствует как минимум в воображении, даже если он не дан непосредственно. Современный феномен одиночества не может трактоваться с точки зрения отсутствия Другого, оно носит цифровой характер – это скорее переживание отсутствия реальной коммуникации, понимаемой именно как живое общение. Несмотря на интегрирующий эффект современных информационно-коммуникационных технологий, вполне правомерно констатировать одновременно и их дезинтегрирующий эффект, благодаря которому человек, несмотря на избыточность коммуникации, остается по ту сторону своего персонального цифрового устройства в одиночестве.
Каковы же перспективы столь безудержного технологического прогресса, увлеченности цифровыми технологиями и глобального погружения в информационный мир, оценить пока достаточно сложно. Однако уже сегодня в свете совершенствования технологий искусственного интеллекта можно заявлять о проблеме утраты навыков реальной коммуникации между живыми людьми. Первые шаги в этом направлении активно реализуются в широкой общественной прак- тике в виде голосовых помощников и чат-ботов. Однажды человечество начало создавать «вторую природу» и по мере течения исторического времени эта искусственно созданная структура все более совершенствовалась и усложнялась. В начале третьего тысячелетия человечество оказалось на грани очередного глобального эволюционного шага – рукотворное становится вровень с человеком, на одну ступень, и даже превосходит его в чем-то и может заменить своего создателя. Во многих технологических цепочках, на этапах принятия первичных решений человек уже заменен роботами и искусственным интеллектом, а первые шаги в направлении установления коммуникативного контакта со «второй природой» – машиной – уже есть. Более того, современный человек, особенно молодые поколения, уже имеют ментальную готовность к этому, отдавая предпочтение виртуальной коммуникации. Угроза, которая нависает над поколением эпохи цифры, колоссальная – это одиночество, влекущее за собой разрушение антропологической атрибутики, утрату человеческой субъективности, распад человеческого Я, превращение человека в ретранслятор информационных посланий.
Безусловно, современное человечество переживает переход к обществу нового информационного порядка. Наблюдается становление субъекта иного типа, который постепенно перестает быть абсолютно плотским и обретает новую атрибутику, позволяющую адаптироваться к жизни в информационной, цифровой среде. Противиться прогрессу бессмысленно и утопично. Целесообразно сосредоточить исследовательский фокус на обозначенных проблемах и максимально использовать полученные результаты в научной практике.
Список литературы Одиночество в "обществе всеобщей коммуникации": парадокс цифровой современности
- Ваттимо Дж. Прозрачное общество? М., 2003. 124 с.
- Гоноцкая Н.В. Связи. Философское исследование взаимопонимания. М., 2013. 160 с.
- Ланье Дж. Кому принадлежит будущее? Мир, где за информацию платить будут вам. М., 2020. 560 с.
- Лиотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Эстетика и теория искусства XX века. М., 2007. С. 322–332.
- Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2012. 240 с.
- Макафи Э., Бриньолфсон Э. Машина, платформа, толпа. Наше цифровое будущее. М., 2019. 320 с.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего. М., 2005. 495 с.
- Орлов С.В. Виртуальная реальность как искусственно созданная форма материи: структура и основные закономерности развития // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. 2016. № 1 (11). С. 12–25.
- Шерри Т. Живым голосом. Зачем в цифровую эпоху говорить и слушать. М., 2021. 560 с.
- Howe N., Srauss W. Generations: the History of American Future, 1584 to 2069. N. Y., 1991. 539 p.
- Konrath S., O’Braien E.H., Hsing C. Changes in Dispositional Empathy in American College Students over Time: A Meta-Analysis // Personality and Social Psychology Review. 2011. Vol. 15, iss. 2. P. 180–198. https://doi.org/10.1177/1088868310377395.