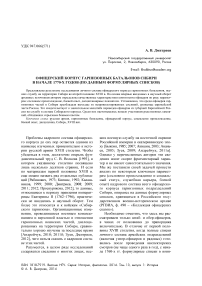Офицерский корпус гарнизонных батальонов Сибири в начале 1770-х годов (по данным формулярных списков)
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты исследования личного состава офицерского корпуса гарнизонных батальонов, несших службу на территории Сибири во второй половине XVIII в. На основе впервые введенных в научный оборот архивных источников автором определены качественные характеристики контингента офицеров по ряду параметров: сословное происхождение, боевой опыт, дисциплинарные показатели. Установлено, что среди офицеров гарнизонных частей в Сибири преобладали выходцы из непривилегированных сословий, уроженцы европейской части России. Это свидетельствует о значительном масштабе переводов офицеров из губерний Европейской России на службу в составе Сибирского корпуса. Среди них насчитывалось немало участников ряда военных кампаний, обладавших серьезным боевым опытом.
Русская армия, гарнизонные батальоны, офицерский корпус, социальное происхождение, боевой опыт, дисциплина, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/147218993
IDR: 147218993 | УДК: 947.066(571)
Текст научной статьи Офицерский корпус гарнизонных батальонов Сибири в начале 1770-х годов (по данным формулярных списков)
Проблемы кадрового состава офицерского корпуса до сих пор остаются одними из наименее изученных применительно к истории русской армии XVIII столетия. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть фундаментальный труд С. В. Волкова [1993], в котором указанному столетию посвящено лишь несколько десятков страниц. И если по материалам первой половины XVIII в. еще можно назвать ряд отдельных публикаций [Рабинович, 1973; Кипнис, 1992; Калашников, 1999; 2000; Дмитриев, 2008; 2009; 2011; 2012; Проскурякова, 2012], то данные, относящиеся к периоду правления императрицы Екатерины II (1762–1796), практически не вводились в научный оборот. Тем более это относится и к войскам «Сибирского гарнизона». Организационные изменения, проводившиеся военным командованием и верховной властью в отношении гарнизонных воинских частей, дислоцированных на территории Сибири, сравнительно хорошо изучены за последнее время [Андрейчук, 2010; 2011б; Зуев, Дмитриев, 2012], чего нельзя сказать о кадровом составе этих частей.
Разумеется, в целом ряде исследований содержатся сведения о многих лицах, нес- ших военную службу на восточной окраине Российской империи в екатерининскую эпоху [Быконя, 1985; 2007; Акишин, 2003; Ананьев, 2005; Зуев, 2009; Андрейчук, 2011а]. Однако у перечисленных авторов эти сведения носят скорее фрагментарный характер и не имеют самостоятельного значения. Мы же поставили своей задачей провести анализ по некоторым ключевым параметрам (сословное происхождение и социальный статус, служебная карьера, боевой опыт) кадрового состава всего офицерского корпуса гарнизонных подразделений Сибири, опираясь на данные формулярных списков, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА, ф. 490 – «Коллекция офицерских сказок»).
Необходимо отметить, что здесь мы рассматриваем только штаб- и обер-офицеров, в чинах от полковника до прапорщика включительно. В отличие от первой половины XVIII столетия, когда полные списки личного состава армейских подразделений (включая унтер-офицеров и рядовых) готовились после проведения инспекторских смотров (не чаще одного раза в год), с начала 1760-х гг. формулярные списки в воин-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © А. В. Дмитриев, 2014
ских частях стали составляться по прошествии каждой трети года (т. е. через каждые четыре месяца), однако теперь они не включали ни рядовых, ни унтер-офицеров, кроме сержантов (см.: [Татарников, 2013. С. 6–8]). Поэтому мы лишены возможности оперировать данными, относящимися к военнослужащим низших чинов, и вынуждены ограничить рассмотрение штаб- и обер-офицерами. Впрочем, даже в этом случае полученная нами картина вполне адекватно отражает состояние офицерского корпуса сибирских частей и позволяет сделать ряд выводов, опираясь на указанные выше параметры.
Данные, которыми мы оперируем, относятся к 1772 г. На тот момент гарнизонные войска Сибири состояли из 12 пехотных батальонов: 1-го, 2-го и 3-го Тобольских, Томского (находились в городах Западной и Южной Сибири), 1-го и 2-го Омских, Петропавловского, Семипалатинского, Бийского (дислоцировались вдоль южной границы русских владений в регионе, по крепостям Пресногорьковской, Иртышской и Колывано-Кузнецкой линий), 1-го и 2-го Селенгинских, Иркутского (в Забайкалье). Семь из них были сформированы в 1764 г. при раскассировании пехотных полков, а еще пять линейных – в 1771 г. из состава драгунских полевых полков [ПСЗ-I, 1830. С. 134, 136, 187, 188, 190; Висковатов, 1899. С. 33, 34; Быконя, 1985. С. 183, 184; Андрейчук, 2011б. С. 41; Зуев, Дмитриев, 2012. С. 23]. Всего по спискам 1772 г. в них состояли 336 чел., в том числе штаб-офицеров – 53, обер-офицеров – 283 (вместе с батальонными адъютантами и аудиторами при обер-комендантах Тобольска и Иркутска) 1. Правда, необходимо отметить, что «в комплекте» (т. е. на полагающихся по чинам должностях) состояли менее половины из них, только 159 чел., а еще 177 чел. либо занимали свободные вакансии в низших чинах (секунд-майоры на капитанских, поручики на прапорщичьих и т. д.), либо числились «сверх комплекта». Состоящими «сверх комплекта» считались в русской армии XVIII в. те офицеры, которые при зачислении в состав того или иного полка / батальона не могли рассчитывать получить должность согласно своим чинам, поскольку все соответствующие вакансии были уже заняты, и поэтому должны были дожидаться, пока для них освободятся места.
Столь значительное число «сверхкомплектных» в сибирских гарнизонных батальонах не должно удивлять, поскольку в 1772 г., судя по всему, еще не завершился перевод в них офицеров из бывших кавалерийских полков. Так, в списках пяти линейных батальонов мы обнаруживаем 104 чел., однако «в комплекте» из них находился только 31 чел., остальные 73 были «сверхкомплектными». А в четырех западносибирских батальонах состояли 164 чел., в том числе 87 «сверх комплекта». По-види-мому, большинство среди этих последних составляли как раз офицеры «раскассированных» драгунских полков, которых еще не успели определить в другие воинские части и временно причислили к гарнизонным батальонам. Для сравнения: в трех забайкальских батальонах состояли 68 офицеров, но к «сверхкомплектным» относились только 17 чел. Тем не менее, поскольку в формулярных списках, поданных командующим Сибирского корпуса гене-рал-поручиком И. А. Деколонгом в Военную коллегию за 1772 г., они перечисляются все вместе, мы также включили их в рамки нашего исследования.
Данные о происхождении всех этих офицеров представляют следующую картину: наиболее многочисленной была группа выходцев из семей военнослужащих – преимущественно сыновья рядовых солдат, а также драгун, капралов и унтер-офицеров – всего их оказалось 150 чел. из 336, т. е. чуть менее половины (45 %). На втором месте следуют представители дворянского сословия (78 чел., 23 %), близки к ним по происхождению также дети штаб- и обер-офицеров, которые, впрочем, всегда в изученных нами списках выделялись отдельно (38 чел., 11 %) 2. Выходцев из других сословных групп – купечества и посадских, церковнослужителей, казаков и крестьян – насчитывалось 39 чел. (12 %), иностранцев (приезжих из европейских государств, а также прибалтийских немцев – «остзейцев») было 29 чел. (8 %). Социальное происхождение еще троих офицеров в источниках не указывалось. При этом следует заметить, что если в составе семи батальонов, существовавших с 1764 г., солдатские дети устойчиво преобладали (119 чел. из 232, т. е. даже более половины), то в пяти линейных батальонах, которые стали формироваться только в 1771 г., напротив, мы видим, что численность офицеров-дворян была даже чуть большей, нежели сыновей рядовых военнослужащих: 36 чел. против 31.
В целом, подобная картина вполне соответствовала общим тенденциям в комплектовании офицерского корпуса русской армии второй половины XVIII в. Исследователями уже отмечено, что во времена Екатерины II «большинство офицеров хороших фамилий группировались в гвардейском кругу; немногие из них попадали в армейские полки, да и то, как правило, старшими офицерами. Их подчиненными в этом случае становились офицеры из мелкопоместного дворянства и произведенные из солдат» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 128, 129]. Что уж говорить о гарнизонных войсках, служба в которых на всем протяжении столетия считалась куда менее престижной, чем в полевых частях! Впрочем, существовал один канал пополнения «Сибирского гарнизона» даже представителями знатных фамилий – это была ссылка на службу в Сибирь за какие-либо серьезные преступления. Проиллюстрируем этот тезис некоторыми примерами.
Одним из таких ссыльных был 20-летний подпоручик И. Опочинин, числившийся в Бийском батальоне на вакансии прапорщика (штат гарнизонного батальона чинов подпоручика не предусматривал). Сын генерал-майора А. В. Опочинина, владельца свыше 5,5 тыс. крепостных душ мужского пола (м. п.), он еще в 1765 г. в 13-летнем возрасте был зачислен отцом в адъютанты, получил разностороннее образование: «Грамоте читать и писать по-российски, по-фран-цуски, по-немецки перфекте (отлично, совершенно. – А. Д.), по латыни, италиански, аглицки, гречески отчасти, по-еврейски, арифметики, геометрии, алгебры, фортификации, архитектуры и артиллерии посредственно, пиитику, физику воздушную и инструменталную, логику и философию, богословию слушал также, историю и географию совершенно, механики и химии часть умеет» 3. Однако весной 1772 г. имен- ным указом императрицы «за важный дерзостный проступок» он был сослан в Сибирь с зачислением в линейный батальон, причем с запретом на производство в следующие чины и на возвращение в европейские губернии (о суде над ним и приговоре см.: [Барсуков, 1885. С. 199–240]).
Однако таких людей в кругу сибирских офицеров насчитывались единицы. Подавляющее большинство среди служивших в гарнизонных частях дворян составляли мелкие земле- и душевладельцы либо те, кто вообще не имел за собой крепостных. К помещикам среднего достатка (владельцам 100 и более крепостных) относились всего три человека: капитаны 1-го Тобольского батальона Н. Абрамов (100 душ м. п. в Коломенском и Вологодском уездах), 2-го Тобольского А. Похвиснев (совместно с братом владел в Белгородской губернии 770 душами м. п.), поручик того же батальона Н. Бестужев (также владелец 100 душ м. п.) 4. Среди всех остальных преобладали владельцы двух-трех десятков крестьян, а многие вообще имели менее десятка душ. Это относилось даже к командному составу и штаб-офицерам. Так, командир Томского батальона подполковник И. Жидовинов числил за собой всего 10 душ м. п., столько же имел командир Семипалатинского батальона подполковник З. Яковлев 5. У 26 чел. (ровно треть) крепостных не было вовсе. И это при том, что, в отличие от первой половины XVIII в., теперь среди гарнизонных офицеров доля местных (сибирских) уроженцев была весьма невелика, а прибывшие из европейских губерний дворяне составляли устойчивое большинство. Сибиряков, заявлявших о своем происхождении из дворян или детей боярских, в изученных нами списках оказалось всего 10 чел. Правда, некоторые из них также становились душевладельцами: секунд-майор 1-го Тобольского батальона А. Матигоров показывал за собой 24 души крестьян, а поручик Семипалатинского батальона С. Павлуцкий – 34 души м. п. за своим отцом 6. Но такие случаи выглядели все же исключением из правила.
Относительное же большинство, как уже отмечалось выше, составляли в здешнем офицерском корпусе именно солдатские дети, упорной службой пробивавшие себе дорогу наверх, к обер- или даже штаб-офицерским чинам. У некоторых карьера складывалась вполне удачно, другим же приходилось преодолевать немалые затруднения. Командир 3-го Тобольского батальона А. Мартышев, например, уже в 45 лет получил чин секунд-майора, командир 2-го Селенгинского батальона Д. Круглов сделался секунд-майором в возрасте 51 года 7. Впрочем, многим офицерам помогало продвигаться по служебной лестнице участие в тех или иных военных кампаниях, прежде всего в Семилетней войне 1756–1762 гг. (данные эпизоды будут рассмотрены нами ниже).
А вот, например, во 2-м Тобольском батальоне П. Нашильников к своим 64 годам сумел выслужить только чин поручика, в Иркутском батальоне Ф. Сыромятников в возрасте 57 лет числился только подпоручиком на вакансии прапорщика. Во 2-м Селен-гинском батальоне М. Быков дослужился до капитанского чина только в 52 года, во 2-м Тобольском батальоне И. Жаворонков получил тот же чин в возрасте 53 лет 8. Понятно, что рассчитывать на улучшение своего материального благосостояния по окончании карьеры таким людям было сложно. Впрочем, бывали также случаи, когда представители непривилегированных сословий становились даже батальонными командирами.
Так, 1-м Тобольским батальоном командовал секунд-майор Ф. Серебряков, «из церковников Сибирской губернии» (майорский чин он выслужил к 48 годам), а командир 2-го Омского батальона С. Красноперов в свои 42 года сделался уже премьер-майором, «обогнав» по служебной лестнице собственного отца (он был сыном обер-офицера) 9. Очевидно, многое зависело от того, как складывались конкретные жизненные обстоятельства и карьерная биография офицеров, а также от степени их дисциплинированности и наличия / отсутствия тех или иных проступков и упущений. К последнему вопросу мы еще вернемся.
Наконец, не забудем о европейцах и «остзейцах», также в некотором числе попа- давших на службу в «Сибирский гарнизон». Хотя их доля, как указывалось выше, была немногочисленной, однако показателен тот факт, что к ним принадлежали пятеро из 12 батальонных командиров. Трое из них являлись прибалтийскими немцами, один был выходцем из бранденбургских дворян, а еще один – представителем фамилии грузинских князей. Командир 1-го Омского батальона – полковник Ф. фон дер Рооп (фон Дероп), курляндец (в 1780-х гг. он был комендантом Бийской крепости, см.: [Исупов, 1999]); Бийского батальона – секунд-майор И. Клеитин, лифляндец; Петропавловского – секунд-майор К. фон Трейблут («предки ево были пруской нацыи ис Померании из шляхетства, а он родиною лифлян-дец»); Иркутского – секунд-майор К. Арензее (уроженец Бранденбурга); 2-го Тобольского – премьер-майор кн. Е. Ратиев (Ратишвили) 10. Заметим, что в этом смысле ситуация не менялась фактически на всем протяжении столетия, в 1745 г. четырьмя из пяти полков, передислоцированных в Сибирь из Европейской России, командовали иностранцы [Дмитриев, 2009. С. 50], а в 1767 г. командиры пяти из 11 полков Сибирского корпуса (незадолго до их расформирования) также были нерусского происхождения 11.
Всего среди найденных нами 29 «иноземцев» к «остзейским» выходцам относились восемь человек, шестеро прибыли в Россию из Пруссии и других германских земель, еще пятеро показывали себя шведами (из них один – уроженец шведской Померании, т. е. скорее тоже немец по этнической принадлежности). Встречались среди них и представители славянских этносов: трое поляков и даже один эмигрант из Сербии. Наконец, два человека были грузинскими дворянами (один из них уже упомянут выше), один – венгр, переехавший в Россию из Австрии, а еще один (поручик 1-го Тобольского батальона И. Чапкин) – «из дворян персицкой нации», перешедший в православие. У двоих человек этническое происхождение не было указано. На русскую службу они попадали различными путями. Так, мекленбуржец М. фон Эстеррайх до приезда в Россию почти 20 лет прослужил в прусской армии, добравшись до чина штабс-капитана, а в 1760 г. (в разгар Семилетней войны!) был «в российскую службу поручиком принят», к 1769 г. дослужившись до секунд-майора 12. В его послужном списке не уточнялось, был ли этот переход добровольным, или он оказался в числе военнопленных. Секунд-майор Арензее прибыл в Россию в 1750 г., первоначально сделавшись переводчиком при генерал-аншефе Л. А. фон Бисмарке; польский шляхтич С. Домский, начав военную карьеру у себя на родине, успел побывать и в прусской армии («взят в полон в Прускую державу»), откуда в 1760 г. перебрался в Россию 13.
Несколько человек совсем недавно (в 1771 г.) перешли на русскую службу из армий других европейских государств, причем с понижением чина из капитанов в поручики: уроженец герцогства Брауншвейг А. Фишер из «брауншвейгской герцогской службы» в Петропавловский батальон, венгерский шляхтич П. фон Бейнцки – из австрийской армии («римской императорской службы») в 1-й Омский 14. В Семипалатинский батальон командир Сибирского корпуса генерал-поручик И. А. Деколонг определил своего сына Ивана, в 20 с небольшим лет уже получившего чин поручика, но находившегося не в Сибири, а в Ревеле «при порученной комиссии». Житель г. Данцига (Гданьска) Д. Захариус (сын тамошнего купца) добровольно пошел на службу волонтером и за 12 лет дослужился до капитанского чина 15. Своеобразно сложилась судьба упомянутого выше И. Чапкина. Крестившись в православную веру и пойдя на службу в 1741 г. 17-летним юношей, он, судя по всему, вскоре попытался вернуться к своей родной вере (исламу). За это потенциальный вероотступник был приговорен к смерти: «В Свияжском полку за отриновение веры греческаго исповедания приговорено ему было учинить смертную казнь» 16. Однако императрица Елизавета Петровна помиловала его, так что он отделался разжалованием из прапорщиков в сержанты и ссылкой в сибирские гарнизонные части.
Довольно значительная часть офицеров обладала практическим боевым опытом участия в тех или иных военных кампаниях – 120 чел., т. е. чуть более трети (35,5 %). Для гарнизонных подразделений, тем более дислоцированных в Сибири, вдали от основных театров, на которых Россия вела войны большую часть XVIII столетия, такой показатель выглядит достаточно высоким. В том или ином качестве принимали участие в кампаниях русско-турецкой войны 1735– 1739 гг. 26 чел., русско-шведской войны 1741–1743 гг. – 40 чел., Семилетней войны (1756–1762) – 53 чел., продолжавшейся на тот момент русско-турецкой войны 1768– 1774 гг. – 10 чел. Заметим, что многие офицеры за свою военную карьеру успевали отличиться в ходе не одного, а нескольких из перечисленных военных конфликтов середины XVIII в. Кроме того, мы включили в общее число также и тех, кто не был задействован в войнах на европейском и южном театрах, а стал участником вооруженных стычек и боевых действий непосредственно на восточной окраине Российской империи, в пограничных столкновениях с кочевниками (башкирами, калмыками, казахами) или на Чукотке в составе Анадырской партии.
Относительно некоторых из этих людей составители послужных списков даже сочли необходимым специально подчеркнуть их доблестное поведение на поле боя. Например, секунд-майор 2-го Тобольского батальона М. Кривоногов «в 770 году в турецкой компании, будучи в авангардном корпусе, в сражениях находился… 5 июля при сражении, в котором неприятель все свои силы на правой фланг эскадронов того корпуса устремил, а он, разделя свои эскадроны, прикрывал фланги с отменною расторопностию и мужеством, 7 июля при атаке неприятел-ского лагеря, идущей неприятелской пехоты, 21 июля при главной баталии и 23 июля при преследовании бегущаго неприятеля к забранию в плен осталных сил ево, и во всех случаях… должность свою исправлял, как храброму и знающему афицеру надлежит» 17. В данном случае речь идет о сражениях при Ларге и Кагуле, в которых фельдмаршал П. А. Румянцев в июле 1770 г. дважды разгромил в несколько раз превосходившие русскую армию численностью силы крымских татар и турок.
Незаурядными дарованиями отличался капитан Томского батальона С. Соболев. Он также обладал боевым опытом, действовал «в 735 году с полковником Арсентьевым на выручку атакованного с правиантом майора Шкадера, в которой партии… с прежде бунтующими башкирцами была баталия… и были в осаде двои сутки, при которой баталии и ранен в левую руку и в правую ногу стрелами, в 736 командирован был с майором Павлуцким ис Чебаркулской крепости по Уйе реке за бунтующими ворами башкирцами, где и баталия была». Наряду с этим, капитан показал себя хорошим разведчиком, с 1745 г. находясь в ВерхнеИртышских крепостях, «посылан был по ордерам покойного генерал-майора Кин-дермана… в разные времена в Зенгорскую землицу (Джунгарию. – А. Д.) под видом купца с малою командою для разведывания о иностранных обстоятелствах шесть раз, которые исправил порядочно» 18. Словом, немалая часть офицеров, служивших в 1772 г. в гарнизонных батальонах Сибири, обладали значительным боевым опытом, который мог находить применение не только в ходе крупных военных конфликтов на европейском театре, но и в местных условиях.
А вот с соблюдением воинской дисциплины и действующего законодательства дело обстояло не совсем благополучно. Если еще в середине XVIII в., согласно выявленным нами данным, доля правонарушителей среди офицеров в гарнизонных подразделениях Сибири не превышала 10 % [Дмитриев, 2010. С. 55], то к 1772 г. этот показатель возрос до 32,5 %: 109 чел. из 336, т. е. почти каждый третий, оказывались в разное время (а многие даже неоднократно) под следствием и военным судом («в фергере и криксрехте»). Заметим при этом, что ровно треть нарушителей (36 чел. из 109) обвинялись в совершении тех или иных проступков, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Штрафы и выговоры за действия, совершенные «в пьяном образе», вообще были едва ли не наиболее распространенным явлением.
Укажем несколько примеров подобного рода. Частенько оказывались в состоянии опьянения офицеры, вызванные к их командирам. Так, в послужном списке поручика 3-го Тобольского батальона Ф. Сорокина описывалось, как в 1770 г. он, будучи во 2-м Селенгинском батальоне, «в присудствии господина баталионного командира маиора
Круглова и селенгинского коменданта Ап-пелгреина при наличных штаб и обер офицерах явился пьян, и за то пьянство арестован был и посажен в гобвахт (на гауптвахту. – А. Д. ) на восемь дней» 19. Поручик Томского батальона М. Вершинин, отправленный в 1768 г. в Тобольск для доставки оттуда в крепости Иртышской линии денежного жалования, явился в тамошнюю обер-кригс-комиссариатскую комиссию «в пьяном состоянии», за что был «от того командирования отменен и поставлен в караул в гобвахт не в очередь». А в следующие две недели он уже попался на глаза сибирскому губернатору Д. И. Чичерину, когда, стоя в карауле у тобольского тюремного острога, был усмотрен последним «в пребезмерном пьянстве» 20. Прапорщик 2-го Селенгинского батальона А. Долгих в 1766 г., находясь в Нерчинске, явился пьяным на рынок и грозил находившимся там людям обнаженной шпагой, после чего избил одного из купцов 21.
В некоторых случаях вели себя неподобающим образом также и иностранцы. Упоминавшийся выше секунд-майор фон Эс-террайх подлежал военному суду за целый ряд учиненных им «непорядков»: «1. За наглое и в противность генералитетских пове-леней сожжение кибиток со скотом и со шкарпом; 2. Во устращивании в своих покоях обнаженною шпагою вахмистра Соболева; 3. В приказывании бить капралу подпорут-чика Дрогалева…» Впрочем, он достаточно легко отделался, избежав суда: «Вместо штрафа за сожжение кибиток взыскано с него для удоволствия обидимых 80 рублев, а за протчия продерзости призван в штаб и употребить велено не в очередь в месечной караул или х какой другой должности» 22. Заметим здесь, что провинившиеся вообще в большинстве случаев избегали суда, если только дело не касалось нанесения телесных повреждений или причинения финансового ущерба казне.
Как правило, военные власти ограничивались «репремандом» (вынесением выговора при собрании штаб- и обер-офицеров), наказанием гауптвахтой или направлением вне очереди для несения караула к тюремному острогу. Поручик 1-го Тобольского батальона Ф. Иванов вместе с рядом других лиц ока- зался замешан в подделке данных о принятии пороха и денег в шнуровой (приходнорасходной. – А. Д.) книге. Поставленный за это на месяц вне очереди в караул, он отпустил из острога нескольких заключенных и был приговорен к смертной казни, однако «в разсуждении долговремянной ево службы а особливо для многолетнаго ея импе-раторскаго величества здравия от того сво-божден», отделавшись благодаря решению губернатора Д. И. Чичерина только штрафом в размере жалования за два месяца 23.
Буйным нравом отличался поляк С. Дом-ский. Еще находясь на службе в Олонецком драгунском полку в 1761 г., он явился ночью к казенному кабаку и пытался вытащить через окно за волосы целовальника, отказавшегося в неурочное время продать ему вина. Будучи в Тобольске, он однажды въехал верхом на лошади прямо в сени помещения гауптвахты, после чего сибирский губернатор Ф. И. Соймонов не только учинил ему «репреманд» (т. е. объявил выговор), но также распорядился «как он при полку будет находится, примечать… и естли он хотя мало в каких непорядках или шум-стве найдется, бес представления по команде судить воинским судом» 24. Впрочем, и в дальнейшем Домский, находясь в одном из форпостов при Железенской крепости, грабил собственного денщика, присваивая себе его жалование, «чинил обиды» линейным казакам, так что командующий Сибирским корпусом генерал-майор К. фон Фрауен-дорф вынужден был в 1764 г., «взяв ево в штаб квартиру в крепость Железенскую, определить в состоящие во оной роты и впредь в отсудственные места отнюдь никуда не определять».
Встречались нарушения закона и в сфере личной жизни. Так, поручик 3-го Тобольского батальона И. Соколов угодил под суд в 1768 г. за прелюбодеяние с «девкой польской нации» Анной Петровой (вероятно, из ссыльных). Однако губернатор Д. И. Чичерин рассудил: «Хотя де ево, Соколова, и подлежало штрафовать отсылкою к церковному покаянию, но как он по неосмотрител-ному от судящих к смертной казни заключению сентенции немалое время содержался скован под арестом, то вменить ему в штраф и, отдав шпагу, ис под караула свободить по прежнему в ево должность» 25. Бывший гренадер лейб-кампании А. Булычов, еще в 1763 г. решением Военной коллегии фактически сосланный в Сибирский корпус с чином подпоручика, видимо, не смог смириться с таким поворотом судьбы и ознаменовал свое пребывание в 1-м Тобольском батальоне множеством проступков. В частности, стоя у тюремного острога в карауле, он пил вино с колодником Соболевым; пьянствовал также с сержантом Шарковым; «уронил» в грязь прапорщика Дарнина, «вымарав» на нем казенный мундир; ограбил отданного ему «для услуг» солдата, украв у него 2 руб. денег; избив жену капитана Чижова, снял с нее платье и отобрал 1 руб.; наконец, «за вынятие положенных от доброходателей святым образом на свечи и ладан в отлучение часоваго из ящика денег (в соборной церкви. – А. Д.)» был приговорен военным судом к расстрелу. Однако и здесь вмешался губернатор Д. И. Чичерин, сначала настояв только на разжаловании обвиняемого в рядовые, а в 1771 г. даже распорядившись вернуть ему офицерский чин 26.
Разумеется, в рамках одной статьи невозможно дать полную картину того, что представлял собой офицерский корпус гарнизонных частей в Сибири даже за один конкретный год. Тем не менее исследованные нами параметры позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, мы установили, что даже в чинах штаб- и обер-офицеров устойчиво преобладали выходцы из непривилегированных сословий, к тому же в большинстве своем уроженцы европейской части России. Это свидетельствует о наличии в Сибири тех же тенденций в процессе комплектования офицерского корпуса армии, что были характерны для второй половины XVIII в. в масштабах всей страны в целом. Более того, именно в период правления Екатерины II получил широкий размах перевод офицеров из губерний Европейской России на службу в подразделения Сибирского корпуса. На это указывает, в частности, значительная доля в офицерских чинах лиц, обладавших реальным боевым опытом, участников ряда военных кампаний.
Наконец, исследуемый период характеризуется как не слишком благополучный с точки зрения поддержания дисциплины и соблюдения действующего законодательства, что, возможно, было обусловлено как нежеланием военных и гражданских властей применять суровые меры к провинившимся офицерам (соответствующие примеры приводились нами выше), так и стереотипами поведения, усвоенными большинством из этих людей. Это также подтверждает вывод современных исследователей об интересной особенности русской армии екатерининских времен, когда, демонстрируя чудеса храбрости и массовый героизм на поле боя, солдаты и офицеры зачастую вели себя неподобающим образом в мирное время. Свидетельство современника-иностранца (графа А. Ф. Лан-жерона, французского эмигранта на русской службе): «Привычка их жить по-солдатски… придает им часто тон и привычки солдата; чрезмерная грубость и привычки извлекать пользу из всего и на всем, к несчастью, слишком терпимы в России» [Ланжерон, 1895. С. 168], – оказывалось вполне применимо и к офицерам сибирских гарнизонных батальонов.
OFFICER CORPS OF SIBERIAN GARRISON BATTALIONS IN EARLY 1770s (FROM THE SERVICE RECORDS’ DATA)
Список литературы Офицерский корпус гарнизонных батальонов Сибири в начале 1770-х годов (по данным формулярных списков)
- Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII в.: организация и состав государственного аппарата. М.; Новосибирск: Древлехранилище, 2003. 408 с.
- Ананьев Д. А. Воеводское управление Сибири в XVIII в. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 264 с.
- Андрейчук С. В. Роль Сибирского корпуса в обеспечении военной безопасности и освоения юга Западной Сибири (1771-1796 гг.) // Вестн. Тамбов. гос. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2010. Вып. 8 (88). С. 174-179.
- Андрейчук С. В. Источники комплектования и личный состав регулярных полков Сибирского корпуса (вторая половина XVIII - начало XIX в.) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сб. материалов I Всерос. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2011а. С. 60-66.
- Андрейчук С. В. Становление Сибирского корпуса: структура, численный состав и принципы дислокации (1745-1771 гг.) // Военно-исторический журнал. 2011б. № 3. С. 38-42.
- Барсуков А. П. Рассказы из истории XVIII века по архивным документам. СПб.: Тип. тов-ва «Обществ. польза», 1885. 286 с.
- Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX в. Формирование военно-бюрократического дворянства. Красноярск: Изд-во КрасГУ, 1985. 297 с.
- Быконя Г. Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII - начале XIX века (демографо-сословный аспект). Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2007. 415 с.
- Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб.: Тип. В. С. Балашев и К, 1899. Ч. 4. 226 с.
- Волков С. В. Русский офицерский корпус. М.: Воениздат, 1993. 368 с.
- Дмитриев А. В. Офицеры русской армии на сибирской службе в 30-х гг. XVIII в. (По материалам Якутского пехотного полка) // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: Сб. материалов II Регион. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2008. С. 117-126.
- Дмитриев А. В. Иностранные офицеры на службе в полевых и гарнизонных войсках на территории Сибири (середина XVIII в.) // Aus Sibirien-2009: Науч.-инф. сб. Тюмень, 2009. С. 50-52.
- Дмитриев А. В. Уровень дисциплины и нарушения закона в русской армии середины XVIII в. (социально-политическая адаптация военнослужащих в условиях Сибири) // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы: Сб. материалов IV Регион. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2010. С. 54-62.
- Дмитриев А. В. Этническое и сословное происхождение офицеров-иностранцев на военной службе в Сибири середины XVIII в. (1750-е гг.) // Aus Sibirien-2011: Науч.-инф. сб. Тюмень, 2011. С. 58-61.
- Дмитриев А. В. Офицерский корпус драгунских полков русской армии в Сибири в первой половине 1750-х гг. // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 8: История. С. 35-44.
- Зуев А. С. Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII - XVIII век). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 444 с.
- Зуев А. С., Дмитриев А. В. Армейские регулярные части в Сибири в XVIII - начале XIX в.: численность, состав, дислокация // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 1: История. С. 17-29.
- Исупов С. Ю. Бийск: острог, крепость, город. Бийск: Искра, 1999. 149 с.
- Калашников Г. В. Офицерский корпус русской армии в 1725-1745 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1999. 25 с.
- Калашников Г. В. Учет офицерских кадров русской армии в 1700-1745 гг. // Клио. СПб., 2000. № 3 (12). С. 116-124.
- Кипнис Б. Г. О социальном составе и боевом опыте офицерского и унтер-офицерского корпуса российской армии в XVIII столетии // Экономические и социально-политические проблемы отечественной истории. СПб., 1992. С. 44-62.
- Ланжерон А. Ф. Русская армия в год смерти Екатерины II // Русская старина. 1895. Т. 84, № 4. С. 145-177.
- Леонов О. Г., Ульянов И. Э. Русская пехота, 1698-1801: Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. М.: АСТ, 1995. 295 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. СПб.: Тип. II отд. собств. Е. И. В. канц., 1830. Т. 43, ч. 1: Книга штатов. 866 с.
- Проскурякова М. Е. «Из определенных к Остзею»: гарнизоны крепостей Выборга и Кексгольма в первой половине XVIII в. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 179 с.
- Рабинович М. Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров регулярной русской армии в конце Северной войны // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 133-171.
- Татарников К. В. Предисловие // Послужные и смотровые списки русской армии 1730-1796 гг. в собрании РГВИА. Межфондовый указатель / Сост., вступ. ст., оформл. К. В. Татарников. М., 2013. Т. 1. С. 3-42.