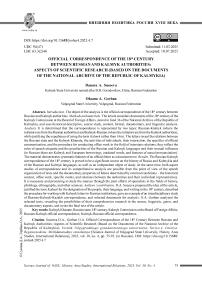Официально-деловая переписка XVIII в. между русскими и калмыцкими органами власти: аспекты научного исследования (на материале документов Национального архива Республики Калмыкия)
Автор: Сусеева Д.А., Горбань О.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Внешняя политика России XVIII века
Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Объектом анализа является официально-деловая переписка XVIII в. между русскими и калмыцкими органами власти. Методы и материалы. Рассматриваются документы XVIII в. Калмыцкой комиссии при Коллегии иностранных дел, хранящиеся в фонде 36 Национального архива Республики Калмыкия, с использованием историко-описательного, источниковедческого, содержательного, формулярного, документоведческого, лингвистического анализа. Анализ. Определено, что переписка представлена двумя типами: русско-калмыцкой (где инициаторами выступают представители органов власти России) и калмыцко-русской (где инициаторами выступают представители калмыцкой власти), при этом обосновывается целесообразность использования термина калмыцкий, а не ойратский. В письмах раскрываются отношения между Российским государством и Калмыцким ханством, деятельность конкретных лиц, их взаимодействие, особенности официальной коммуникации и порядок ведения делопроизводства в сфере межгосударственных связей; отражаются правила речевого этикета, особенности русского и калмыцкого языков, их взаимовлияние (в русском – калмыцкие и европейские заимствования, устаревшие слова, черты живого произношения). Материал демонстрирует такое документное свойство официальных писем, как системность. Результаты. Доказано, что русско-калмыцкая переписка XVIII в. представляет собой значимый источник по истории России и Калмыкии, русского и калмыцкого языков, а также самостоятельный объект изучения. При этом возможны как аспектные исследования переписки, так и ее комплексный анализ с точки зрения речевой организации текстов, документных свойств писем, определяемых внешними условиями – историческим контекстом, делопроизводством, конкретными событиями, отношениями между органами власти и их отдельными представителями. Необходимым и перспективным является изучение источников совместными усилиями специалистов в области истории, филологии, этнографии и других наук. Вклад авторов. Д.А. Сусеева предложила идею статьи, обосновала термин калмыцкий для названия народа, его языка и письменности в XVIII в., описала порядок работы с калмыцкими письмами в российских учреждениях, привела пример междисциплинарного исследования русско-калмыцко-казахской переписки, подобрала документы для анализа. О.А. Горбань провела анализ выбранных текстов, раскрыв возможности их комплексного исследования в источниковедческом, лингвистическом, жанровом, документоведческом аспектах, осуществила написание окончательного текста статьи.
Калмыцкое ханство, Российское государство, XVIII век, Калмыцкая комиссия при Коллегии иностранных дел, русско-калмыцкая официально-деловая переписка, калмыцко-русская официально-деловая переписка
Короткий адрес: https://sciup.org/149149139
IDR: 149149139 | УДК: 94(47) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.7
Текст научной статьи Официально-деловая переписка XVIII в. между русскими и калмыцкими органами власти: аспекты научного исследования (на материале документов Национального архива Республики Калмыкия)
DOI:
Цитирование. Сусеева Д. А., Горбань О. А. Официально-деловая переписка XVIII в. между русскими и калмыцкими органами власти: аспекты научного исследования (на материале документов Национального архива Республики Калмыкия) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионове-дение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 4. – С. 75–93. – DOI:
Введение. В настоящее время представителями различных наук активно ведется изучение собраний деловой письменности не только центральных, но и региональных архивов. Для историков местные архивные материалы являются уникальными источниками по политической, экономической, социальной, культурной истории региона в контексте истории государства. Лингвистам они дают обширные данные для описания развития языка во всем многообразии его функциональных и территориальных разновидностей. Одним из богатейших хранилищ является Национальный архив Республики Калмыкия (далее – НАРК), содержащий 1 550 фондов, в которых находятся 446 588 единиц хранения (с 1713 г. по настоящее время) [13, с. 190]. Как отмечают в своем обзоре источниковой базы истории калмыцкого народа К.Н. Максимов и Р.Б. Тогае-ва, в этой сфере имеется целый ряд проблем: рассредоточенность документов по центральным и региональным архивам, доступность документов, их сохранность, введение в научный оборот и др. [13]. Собрание НАРК привлекается разными учеными, тем не менее многие исследовательские задачи еще ждут своего решения.
Настоящая работа посвящена официальноделовой переписке XVIII в. между представителями органов власти Российского государства и Калмыцкого ханства.
Первым о наличии русско-калмыцкой переписки XVIII в. и ее видах заговорил Н.Н. Пальмов (1873–1934). Поднимая вопрос об этих источниках, он указывал, что «громадное количество документов, относящихся к калмыцкой истории, написано на калмыцком и, отчасти, на татарском языках, доступных ограниченному кругу филологов-монголоведов и тюрковедов» [16, с. 28]. Помимо этих трудностей для исследователей, ученый обратил внимание и на неточности хранящихся в архиве «старинных» русских переводов калмыцких деловых писем, так что «историк не всегда может на них полагаться» [16, с. 28].
Заслуга Н.Н. Пальмова заключается не только в том, что он открыл для науки новый объект изучения, но и в том, что он первый указал на междисциплинарность исследований переписки. Ученый прямо говорил, что «...историк калмыцкого народа должен искать содействия специалистов монгольской и тюркской филологии и ожидать, когда они исполнят нелегкую задачу перевода калмыцких и татарских текстов на русский язык и сделают их достоянием широкого круга ученых. Разработка калмыцкой истории предполагает участие в ней целой плеяды ученых и образованных работников. Здесь необходимы и лингвисты, и этнографы, и юристы, и археологи, и экономисты, и художники» [16, с. 28].
Заметный вклад в изучение истории калмыков, в том числе на основе переписки, внесли отечественные и зарубежные исследователи Н.Н. Пальмов [16], М.Л. Кичиков [7], М.М. Батмаев [2], Э. Хёниш [30], Дж.Р. Крюгер и Р.Дж. Сервис [31] и др. Рассматриваемые архивные материалы используются в трудах, посвященных внешней политике России XVIII в. [3], истории отдельных калмыцких улусов [26] и др.
Основные направления филологических исследований переписки XVIII в. в основном связаны с изучением официально-деловых писем калмыцких ханов на калмыцком языке. Имеются публикации, содержащие лингвистическое описание деловых писем хана Аюки [20], хана Дондук-Даши [8], наместника Калмыцкого ханства Убаши [17], а также русских переводов XVIII в. писем калмыцких ханов и их современников [21; 25; 28]. Но, к сожалению, работ, посвященных изучению документов на русском языке в адрес руководителей Калмыцкого ханства и их переводов на калмыцкий язык, – единицы. К их числу, например, относится статья И.В. Кульганек, где рассматривается Указ императрицы Анны Иоанновны 1735 года о назначении Главным правителем калмыцкого народа Дондук-Омбо [11]. Русско-калмыцкой переписке XVIII в. в настоящее время пока уделено мало внимания, однако она является надежным источником для решения многих важных вопросов, касающихся истории как русского языка, так и калмыцкого.
Вопрос о междисциплинарности исследований переписки после Н.Н. Пальмова практически не поднимался, хотя материал, которым располагает НАРК, и сегодня позволяет работать в этом направлении совместно лингвистам, историкам, экономистам, географам, археологам, фольклористам, этнографам и др. Подтверждением тому может служить проект по изучению документов XVIII в. фонда 36 НАРК, представляющих собой русско-калмыцко-казахскую переписку периода, когда главой Калмыцкой комиссии при Коллегии иностранных дел и астраханским губернатором был В.Н. Татищев. Ж.Б. Кундакбаевой, И.В. Торопицыным и Д.А. Сусеевой на материале документов Калмыцкой комиссии была раскрыта тема «Русско-калмыцко-казахские отношения». В ходе совместного исследования были решены задачи: 1) исторического характера (Ж.Б Кундакбаевой и И.В. Торопицы-ным проанализированы взаимоотношения России с народами северного Прикаспия в 1741– 1745 гг.; факторы, влиявшие на формирование политики государства в отношении кочевых народов Прикаспия; процесс урегулирования калмыцко-казахских отношений); 2) лингвистического характера (Д.А. Сусеевой рассмотрен процесс нормализации и стандартизации делового языка на Юге России). Результаты отражены в 9 совместных статьях (см., например: [12; 22; 23]) и подтверждают актуальность подобных исследований.
Кроме того, в настоящее время отсутствуют полное описание жанров документов фонда в плане внешней обусловленности жанровых параметров и их языковой репрезентации, их документоведческий анализ, требующие междисциплинарного подхода. Цель данной статьи – обосновать значимость русско-калмыцкой переписки не только как источника, но и как объекта научных исследований и показать возможности ее разноаспектного, а также комплексного изучения и описания с указанных позиций.
Методы и материалы. Материалом исследования являются документы фонда 36 «1. Государственное управление. Состоящий при Калмыцких делах при астраханском губернаторе» НАРК [24, с. 21–22]. Фонд включает 423 дела (1713–1771 гг.), в которых хранятся официальные документы на русском и калмыцком языках, составляющие переписку представителей органов власти Российского государства и Калмыцкого ханства XVIII века. Дела имеют разный объем: одни включают в себя 250–500 листов, другие – до 1 600. Тысячи документов – это обращения калмыцких ханов и их современников в адрес российских центральных и региональных органов власти, написанные на старописьменном калмыцком языке «тодо бичиг»; тысячи – соответствующие им русские переводы, написанные скорописью.
Авторы опирались на принципы историзма, объективности, а также комплексности, заключающейся в разностороннем описании объекта с учетом его внутренних и внешних связей с использованием совокупности мето- дов: историко-описательного, источниковедческого, содержательного, формулярного, доку-ментоведческого, лингвистического анализа.
Анализ. Определение объекта исследования сопряжено с тем, что среди ученых нет единого понимания терминов калмыцкий язык и русско-калмыцкая переписка . Несмотря на то что в историографии утверждение о формировании в пределах Российского государства новой этнической группы – калмыков – устоявшееся, в общественной и культурной жизни бытуют представления о том, что калмыки – это прежде всего ойраты, являющиеся частью тех ойратов, которые проживают сегодня в Китае. Более того, в научной литературе, посвященной XVIII в., все еще встречается непоследовательное употребление, а порой и смешение наименований ойра-ты и калмыки . Например, в работах Д.Б. Ге-деевой и ряда других авторов калмыцкий язык называется либо ойратским, либо калмыцким [5], в работе Н.О. Кокшаевой – то ойрат-ским, то калмыцким [8, с. 16, 17, 40].
Мы придерживаемся той точки зрения, что язык калмыков следует называть калмыцким , соответственно, письменный язык – калмыцким , а не ойратским письменным языком. Переписку между русскими и калмыцкими органами власти XVIII в. целесообразно называть русско-калмыцкой или калмыцко-русской . В этот период в составе Российского государства проживал народ, который по всем официальным документам из НАРК назывался калмыцким , а не ойратским .
Как известно, в начале XVII в. несколько крупных владельцев ойратского происхождения (торгутских, дербетских, хошутских и др.) вместе с подвластными им людьми перекочевали из Центральной Азии в Прикаспийскую низменность и добровольно вошли в состав России. Тем самым были заложены основы для формирования новой народности – калмыцкой. Калмыцкий народ и его язык – это новые явления, которые возникли именно благодаря вхождению нескольких родственных племен ойратского происхождения в состав России. Здесь, в новых условиях и на новой территории, их диалектные языки получили новую траекторию развития, которая способствовала не только их быстрому сближению, но и формированию на их основе нового для монгольского мира языка – калмыцкого, отличающегося от других языков ойратского происхождения.
Сегодня калмыцкий язык – это язык калмыцкого народа как результата сближения и слияния нескольких родственных племен ой-ратского происхождения на территории Российского государства. С момента вхождения торгутов, дербетов, хошутов в состав России окружавшие их народы (русские, татары, кабардинцы, башкиры и др.) рассматривали их как части одного народа – калмыцкого. В Европе он был известен с XVII в., о чем свидетельствуют труды исследователей калмыцкого (не ойратского!) народа и его языка XVII– XVIII вв. [1; 6, с. 137; 32; 33].
Таким образом, официально-деловая переписка между представителями разных уровней власти Российского государства и Калмыцкого ханства может называться русско-калмыцкой или калмыцко-русской уже с XVII в., поскольку она осуществлялась на русском и калмыцком языках.
Русско-калмыцкая переписка – это та, где инициаторами выступают представители российских органов власти (император, императрицы, губернаторы, коменданты волжских городов), а получателями – представители калмыцкой власти. В качестве примера можно назвать документ на калмыцком языке, посланный комендантом г. Кизляра генерал-майором Н. Потаповым наместнику Калмыцкого ханства Убаши 18 февраля 1767 г., и его русскоязычный оригинал. Оба документа опубликованы в [20, с. 817, 818].
Инициаторами в русско-калмыцкой переписке выступали не только представители местных органов власти, но порой и первые лица государства, например Петр I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. В качестве примера здесь представлена копия грамоты Петра I хану Аюке. Оригинал этой грамоты в свое время был отправлен хану Аюке, а ее копия, согласно порядку делопроизводства, послана астраханскому губернатору и сохранилась в НАРК [9] (рис. 1, 2).
Текст грамоты убеждает в значимости источника как для исторических, так и для лингвистических исследований: здесь содержатся упоминания лиц ( Аюкаи ханъ , Дунду
Анбо , Чапдержап , Досангъ ), раскрываются их взаимоотношения ( Досангъ з братьями своими и з другими находятся в несогласiи и в ссорахъ 1 ), обеспокоенность российского государя междоусобной войной за наследство и призыв к прекращению вражды ( дабы они между собою жили согласно и спокойно, и отнюд бы бол 4 е таких ссор и нападения другъ на друга чинить не дерзали ), новые реалии государственного устройства, воинские и гражданские чины ( императорскогω величества , губернатору астраханскому , капитану , канцеляристъ ), называются географические объекты ( у реки Перекети , в Санктъ Питербурге , Астраханскогω ) и др. В тексте также отражаются черты русского делового языка рассматриваемого периода, например: постановка спрягаемой части сказуемого в конце предложения ( известно учинилось ), использование архаичных грамматических форм ( с воиски , пришед ), книжных слов ( вяще ), новых заимствований ( копия , императорский , капитан , губернатор ) и др. Общим для историков и филологов можно считать вопрос о способах передачи калмыцких имен собственных на русском языке, касающийся, с одной стороны, проблемы инден-тификации исторической личности, с другой – путей освоения иноязычных имен русским языком, и в целом – унификации правил их написания и склонения в современных текстах ( Аюкаи , Аюкаю , ср. совр. Аюка , Аюке ; Дун-ду Анбо , ср. совр. варианты – несклоняемое Дондук-Омбо , склоняемое в Род. п. – Дон-дука Омбо , Дондук Омбы ; Чапдержап , ср. совр. варианты Чакдоржаб , Чакдорд-жаб и др.). Сопоставительный анализ русских и калмыцких текстов позволит выявить использовавшиеся способы перевода и степень его точности, а также особенности обоих языков.
Калмыцко-русская переписка – это такая, где инициаторами выступают представители калмыцкой власти (калмыцкие ханы, наместники ханства, тайши, нойоны), а получателями – представители российских органов власти. Если адресантом оказывалась калмыцкая сторона, то документ посылался на калмыцком языке и в канцелярии адресата переводился на русский. Ответ адресата инициатору давался тоже на калмыцком языке. Приме- ром может служить письмо хана Дондук-Омбо от 24 апреля 1740 г. астраханскому губернатору князю М.М. Голицыну на калмыцком языке [19] (рис. 3) и в русском переводе [18] (рис. 4).
В Астрахани письмо было получено 2 мая, в тот же день переведено на русский язык. Чтобы дать обоснованный ответ на просьбу калмыцкого хана о выдаче ему пороха, свинца и железа, князю М.М. Голицыну пришлось изучать основания для ее выполнения, о чем свидетельствует подготовленный по его распоряжению документ [4]. 14 мая 1740 г. астраханский губернатор пишет ответ на русском языке; в НАРК сохранился его черновик [15] (рис. 5). В тот же день письмо было отправлено хану Дондук-Омбо в переводе на калмыцкий язык; оно хранится в НАРК в черновом варианте [14] (рис. 6, 7).
Названные документы, небольшие по объему, содержат исторические сведения об отношениях между Российским государством и Калмыцким ханством, их взаимных обязательствах (ссылки на высочайший указ), организационной деятельности астраханского губернатора по выполнению этих обязательств с российской стороны, о способах связи (передача писем через нарочных, посланников); отражаются в них также административно-территориальные реалии (Черный Яр, Астраханская губерния), некоторые элементы быта (мерлушковый тулуп).
Анализ текстов позволяет судить о делопроизводстве в российских учреждениях. Так, к собственно тексту письма хана Дон-дук-Омбо в переводе добавлены реквизиты, отражающие название документа (перевод с письма), указывающие на лицо, передавшее письмо (зайсанг Чеметь), на даты написания и получения документа (Писано 24го апреля 1740го году; полученнаго... 2го маия 1740го году), наличие печати у оригинала (У писма печать Дондукъ Ымбы хана калмыцкого), лицо, переводившее текст (Пере-водчикъ Гаврило Калышкин), дату выполнения перевода (1740 году маия въ .2. день), а также запись, свидетельствующая о порядке работы с документами: внесение в книгу входящих и исходящих, передача в соответствующий отдел учреждения – повытье – для сверки с указами, доклад вышестоящему лицу о выполнении (записать в книгу отдать в повыте исправясь со указами а писав доложить). В ответе имеется ссылка на полученное письмо (Сего маия 2го числа получил я от вашего сиятелства... писмо), указываются дата отправки (Таково отправлено 14 маия 1740го году) и лицо, с которым оно отправлено (с Чеметем).
Речевая структура текстов писем дает представление о правилах деловой коммуникации: используются формулы речевого этикета, выражающие адресата и адресанта (обращения верному другу генералу , светлеи-ши калмыцкои ханъ , мои приятнеиши другъ ; представление вашъ приятнеиши другъ и др.), действия как знак уважения и почтения (передача подарка), благодарность за подарок ( попремного благодарствую ) и ответные действия ( такими ж мерами служит вам имею ).
Лингвистический анализ важен для изучения истории двух языков. Так, в приведенных русскоязычных текстах можно выделить калмыцкое ( зайсанг ) и европейские ( кригс-комиссар , губернатор , губерния ) заимствования, устаревшую лексику ( мерлущатый = мерлушчатый , ср. совр. преимущественно мерлушковый или мерлушечий ), неустойчивое грамматическое оформление имени Дон-дукъ Ы мб ы , которое в Им. пад. имеет окончание - о , как в среднем роде, а в Род. пад. – - ы , как у имен муж. и жен. рода на - а . Графика и орфография отражают особенности письма, в частности употребление букв w , s, 9 , к этому времени упраздненных в гражданской азбуке, а также некоторые черты живого произношения: «аканье»; шч = щ , редукция безударного а и окончание - ой вместо - ый в слове мерлу ще т о и и др. Интересно написание кри 9 ъ вместо кригсъ (заимствованная из немецкого языка часть сложных наименований военных должностей и учреждений): оглушение звука г перед с дало сочетание кс , которое по традиции передано буквой 9 . Исследование может быть проведено и в сопоставительном аспекте для выявления межъязыковых соответствий и точности перевода. Полученные результаты найдут применение в создании грамматик и словарей двух языков данного периода.
Названные и другие вопросы могут решаться при аспектных исследованиях источников. Возможен также комплексный подход к текстам писем с позиций теории жанров, документной лингвистики с учетом как языковых средств, так и внеязыковой действительности, которая является средой и условием создания писем.
Письма интересны как образцы жанра и могут быть проанализированы с точки зрения жанровых параметров (о жанровой модели документа см.: [29]) и речевых средств их репрезентации, которая обусловлена историческими условиями (вид документа, характер адресанта и адресата, их взаимоотношений, место создания, передаваемое событие и т. д.), состоянием языка, языковой традицией (книжной, деловой, разговорной). Такое описание, например, писем В.Н. Татищева в бытность его главой Калмыцкой комиссии свидетельствует о характерных признаках делового письма – разнонаправленности коммуникации, полифункциональности, наличии обязательных и факультативных элементов формуляра и др. [27] – и ставит задачу более активного привлечения русско-калмыцкой переписки для расширения сведений об этом жанре.
Комплексное изучение текстов в русле документной лингвистики предполагает исследование их речевой специфики в связи со свойствами писем как документов – функциональностью, структурностью, системностью – при помощи документоведческого анализа. Рассмотренный выше фрагмент переписки ярко демонстрирует такое свойство документа, как включенность в определенную систему документации [10, с. 9]. Здесь мы видим связь между следующими единицами: инициирующее письмо на калмыцком языке; его русский перевод; книга записи входящих и/или исходящих, где они регистрируются; ответ на русском языке; его перевод на калмыцкий; высочайший указ, в соответствии с которым просьба инициатора переписки и ее выполнение правомерны; выписка из документов, подтверждающая случаи выполнения указа. В текстах это эксплицируется ссылками на другие документы; наличие каждого из элементов данной микросистемы и последовательность их создания определены реальной ситуацией и порядком делопроизводства. Документо-ведческий анализ призван определить место документа в системе, его функции (информирующую, разъясняющую, предписывающую и др.), композиционно-содержательную структуру (составные части, формуляр) и собственно речевую организацию (языковые средства, реализующие функцию документа, образующие его композицию, представляющие реквизиты, содержание, стиль и т. д.) [10]. При исследовании источников прошлых эпох такое их описание невозможно без знания исторического контекста, особенностей деловой коммуникации, ведения документации и других экстралингвистических данных.
Комплексный подход целесообразен при решении проблемы издания русско-калмыцкой переписки, подготовка которого предполагает предварительное археографическое описание, а научный аппарат включает источниковедческое, историческое, лингвистическое и иное комментирование.
Результаты. Официально-деловая переписка между представителями власти Российского государства и Калмыцкого ханства XVIII в., хранящаяся в НАРК, – это значимый по своему содержанию и репрезентативности источник для изучения истории России и Калмыкии, русского и калмыцкого языков. Для ее наименования уместным является термин калмыцкий , а не ой-ратский , поскольку в рассматриваемый период можно говорить о формировании калмыцкой народности и калмыцкого языка как самостоятельных.
Документы дают сведения о реальных действиях участников переписки, направленных на развитие и дальнейшее укрепление русско-калмыцких отношений, о событиях, обусловивших эти действия (наличие законодательно установленных взаимных обязательств, деятельность должностных лиц по выполнению этих обязательств, частные действия как проявление личного уважения и т. д.).
Изучение русско-калмыцкой переписки позволяет внести ясность в использование важных для того времени слов, лучше понять закономерности развития и взаимодействия русского и калмыцкого языков, особенности официального общения как проявления традиций речевой культуры двух народов (употреб- ление формул речевого этикета). Источники расширяют представление об особенностях русского литературного языка в период его формирования как национального, пополняют материал, который может использоваться в лексикографической практике (наличие заимствований из европейских и калмыцкого языков, устаревших слов). Переписка, представляющая собой единственный и уникальный источник по живому калмыцкому языку XVIII в., может служить надежной базой как для создания грамматики калмыцкого языка XVIII в. (синхронный тип), так и для исторической грамматики XVII–XIX вв. (диахрон-ный тип).
Переписка может выступать не только как источник, но и как объект исследования – аспектного (источниковедческого, лингвистического и др.) и комплексного. Письма – это прежде всего тексты, которые могут быть рассмотрены в качестве образцов жанра и в качестве документов с присущими им свойствами. Их комплексный анализ призван раскрыть особенности речевой реализации основных жанровых параметров (адресанта, адресата, функции, структуры и др.), формуляр документов, правила делопроизводства, место писем в системе документации, порядок работы с ними (осуществление перевода полученных писем, регистрация оригиналов и переводов, а также ответных писем и т. д.). Такие исследования предполагают внимание к внутренней стороне текстов и к внешней реальности, обусловливавшей их создание и функционирование, требуя междисциплинарного подхода.
Необходимость анализа документов фонда с рассмотренных позиций подтверждается, помимо общих с другими документами черт, и их оригинальностью.
Привлечение сведений из истории, источниковедения, исторической лингвистики необходимо при подготовке документов к публикации.
Основанное на изучении русско-калмыцкой / калмыцко-русской переписки полное и достоверное знание об отношениях между Российским государством и Калмыцким ханством в XVIII в., взаимоотношениях между их представителями как отдельными личностями, о специфике официального речевого (письменного) общения, о культуре двух народов, истории их языков может быть получено только совместными усилиями историков, филологов, этнографов, представителей других общественных и гуманитарных наук.