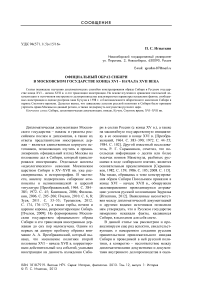Официальный образ Сибири в Московском государстве конца XVI – начала XVII века
Автор: Игнаткин Павел Сергеевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению дипломатических способов конструирования образа Сибири в Русском государстве конца XVI – начала XVII в. и его трансляции иностранцам. На основе изучения и сравнения посольской документации и источников внутреннего делопроизводства анализируются параметры искажения фактов, сообщаемых иностранцам в оценке разгрома хана Кучума в 1598 г. и благонадежности аборигенного населения Сибири в период Смутного времени. Делается вывод, что завышение успехов русской политики в Сибири было призвано упрочить права Москвына данный регион, а также подчеркнуть могущество русского царя.
Сибирь, дипломатическая документация, имидж, кучум, смутное время, xvi-xvii вв., xvi-xvii с
Короткий адрес: https://sciup.org/147218689
IDR: 147218689 | УДК: 94(571.1/.5)615/169
Текст научной статьи Официальный образ Сибири в Московском государстве конца XVI – начала XVII века
Дипломатическая документация Московского государства – наказы и грамоты российским послам и дипломатам, а также их ответы представителям иностранных держав – является единственным корпусом источников, позволяющих изучить и проанализировать официальный взгляд Москвы на положение дел в Сибири, который транслировался иностранцам. Отдельные аспекты «идеологического» освоения Московским царством Сибири в XV–XVII вв. уже рассматривались в историографии. В частности, анализу подвергались сибирские компоненты в великокняжеской и царской титулатуре [Преображенский, 1964. С. 384– 385; 1972. С. 45; Каштанов, 2006; Филюш-кин, 2006. С. 205–206; Пчелов, 2010. С. 6, 8; Зуев, 2011. С. 53–55; Трепавлов, 2012. С. 174, 176–177], а также гербы, печати и царские короны, репрезентирующие Сибирь [Пчелов, 2009]. Но формирование Московским государством официального образа Сибири и его трансляция иностранным державам до сих пор малоизучена. Одним из первых на данную проблему обратил внимание А. А. Преображенский, который выявил, что московские политики второй половины XVI – начала XVII в. корректировали действительный ход событий, указывая иностранцам на давность вхождения Сиби- ри в состав России (с конца XV в.), а также на масштабную государственную инициативу в ее освоении в конце XVI в. [Преображенский, 1964. С. 383–390; 1972. С. 44–55; 1984. С. 102]. Другой известный исследователь, Р. Г. Скрынников, отметил, что посольская информация о десяти или более тысячах воинов Маметкула, разбитых русскими в ходе «сибирского взятия», является основательным преувеличением [Скрынников, 1982. С. 159; 1986. С. 105; 2008. С. 115]. Мы также, обращаясь к теме конструирования образа Сибири Посольским приказом в конце XVI – начале XVII в., обнаружили целенаправленно проводившуюся аггравацию успехов русской колонизации Зауралья [Игнаткин, 2012]. Выявленные несоответствия между дипломатической документацией и другими видами источников позволили нам утверждать, что в Русском государстве намеренно искажали факты, касавшиеся Сибири, в выгодном для себя свете.
В данной статье мы рассмотрим и проанализируем еще ряд аспектов, свидетельствующих о намеренном создании русским правительством привлекательного имиджа Сибири и проводимой в ней русской политики, а конкретно – несоответствие между дипломатическими документами и документами внутреннего делопроизводства в оцен-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 1: История © П. С. Игнаткин, 2013
ках победы над ханом Кучумом и благонадежности аборигенного населения Сибири в период Смутного времени. Отдельное и сопоставительное изучение названных типов документов дает возможность выяснить величину и параметры искажения русской дипломатией размаха и результатов начального периода освоения Сибири, а также проследить эволюцию образа Сибири в дипломатической документации и ответить на вопрос, какую функцию выполнял сконструированный имидж Сибири.
Как известно, в 1598 г. на р. Ирмень в Верхнем Приобье последний правитель Сибирского юрта «салтан» Кучум потерпел от русских окончательное поражение. Это был крупный успех русского оружия. Большая часть семьи Кучума попала в плен и была отправлена в Москву. Сам же Кучум, бежавший с поля брани, через несколько лет погиб. Разгром «сибирского царя» должен был повысить престиж России и закрепить права на Западную Сибирь. Сообщения об этом событии, передаваемые русской властью иностранцам, были призваны подчеркнуть всесокрушающую победу над Кучумом и могущество московского царя. К примеру, в наказе 1600 г. Г. Микулину и И. Зиновьеву, отправленным в Англию, а также в наказе 1601 г. А. Жировому-Засекину «с товары-щи», делегированным в Персию, предписывалось сообщить представителям данных держав о разгроме Кучума, «побитого на голову», о том, что его «воинских людей побили болши шти тысяч человек… и лут-чих князей и мурз болши трех сот человек живых взяли» [Памятники…, 1883. С. 297; Памятники…, 1892. С. 51]. В наказе 1613 г. С. Ушакову и С. Заборовскому, отправленным в Германию, вообще говорилось о том, что после завоевания Сибири «и Кучюма царя убили и детей его всех и Царей поима-ли и к Москве привели» [Памятники…, 1852. Cтб. 989]. То же самое значилось в наказе А. Зузину и А. Витофтову, откомандированным в 1613 г. в Англию [Посольская книга…, 1979. С. 130.]. В наказах Ушакову и Заборовскому, Зузину и Витофтову содержится также намек на то, что к смерти Кучума могла быть причастна русская сторона.
Обращение к прямым свидетелям окончательного разгрома Кучума в Верхнем Приобье в 1598 г. свидетельствует о совершенно других, более реалистичных цифрах.
Так, в отписке царю тарского воеводы А. Воейкова от 1598 г., возглавлявшего этот знаменитый поход, сообщалось, что кроме плененных членов ханской семьи «лутчих людей Кучюмовых взяли на бою, князей и мурз пять человек… да убили на бою шесть князей… да десять мурз… да пять аталыков… да полтараста человек служилых людей; да со сто… потопло на Оби на реке, как они поплыли за Обь реку…». Еще около пятидесяти человек русскими было «побито» и «перевешано» [Акты…, 1841. С. 3]. Эти же данные зафиксированы в поименной росписи 1598 г. взятых в плен членов семьи Кучума и его окружения [Там же. С. 4 – 5]. Таким образом, согласно очевидцам, общая численность убитых и погибших воинов Кучума равнялась примерно 300 чел., но никак не шести тысячам. Намного меньше, чем это указывалось в посольских наказах, было и количество плененной сибирско-татарской аристократии. К тому же в плену оказались не все дети Кучума. Его сыновья – кучумовичи – на протяжении всего XVII в. будут предпринимать попытки вернуть себе Сибирское ханство, фигурируя в русских источниках как «царевичи» [Тре-павлов, 2012. С. 173 – 181]. Сам же Кучум, скорее всего, был убит в Средней Азии. Хотя обстоятельства его гибели точно неизвестны, нет никаких фактов, свидетельствующих о причастности к его смерти русской стороны [Скрынников, 1982. С. 220; 1986. С. 157; 2008. С. 183 – 184].
Интересно, что в инструкции 1600 г. Б. Воейкову, отправленному встречать английского посла, приехавшего в Россию, при описании победы над Кучумом не упоминается о шести тысячах разгромленных воинов [Памятники, 1883. С. 378 – 379]. Можно предположить, что русские, учитывая возможность того, что англичане в России могли получить доступ к неофициальной информации об этом событии, предпочли вовсе не упоминать им эти завышенные цифры. За границей, где посольские данные не могли быть проверенными, результаты сражения преувеличивали, не опасаясь подозрений в искажении фактов.
В посольской документации конца XVI в. также встречаются указания на наличие в Сибири якобы ста тысяч или более ратников, видимо, аборигенного происхождения. По мнению А. А. Преображенского, мотивы такой деформации исторических реалий могли определяться тем, что в это время Россией велись переговоры с европейскими странами о совместных военных действиях против Турции, и Москве было выгодно указать на мощь своего военного потенциала [Преображенский, 1964. С. 389; 1972. С. 53]. Принимая это во внимание, можно и информацию о значительно преувеличенном количестве павших воинов Кучума интерпретировать схожим образом.
Сообщения о преданности русской власти аборигенного населения Сибири в период Смутного времени, скорее всего, были призваны проиллюстрировать права Москвы на данный регион и стабильность ее позиций здесь. Вскоре после окончания Смуты иностранцев заверяли, что «Сибирское царьство по-прежнему в послушанье к Московскому государьству», а «не в послушанье и в розни николи не бывало» (1613 г.) [Памятники…, 1913. С. 339], «Сибирское государство» «не поколебалось, ни к какой смуте и к воровству сибирские люди не пристали» (1613 г.) [Памятники…, 1852. Стб. 989], «А как в Московском государстве по грехом смута и рознь была, а Сибирское государство не поколебимо было, и ни х какой смуте и к воровству сибирские люди не пристали, служили государем царем, царю Борису и царю Василью, и после царя Васи-лья с Московским государством вместе» (1613 г.) [Посольская книга…, 1979. С. 131], «А от Московского государства сибирское государство николи в непослушанье не было» (1615 г.) [Памятники…, 1913. С. 526], «в Сибири никак нихто не соблазнился, все была к Московскому государству» (1616, 1618 гг.) [Памятники…, 1898. С. 226, 352].
В указанных сообщениях речь шла как о русском, так и об аборигенном населении Сибири. Но если преданность и лояльность Москве русских поселенцев в период Смуты в целом не вызывает сомнения, то этого нельзя сказать про местные народы. Аборигены Западной Сибири были хорошо осведомлены о том, что в Смутное время «на Москве русские люди меж собою секлись», и ими подготавливались и даже осуществлялись восстания, о чем было отлично известно в Москве [Акты…, 1914. С. 70 – 73, 374 – 376; Акты…, 1915. С. 61 – 64]. Соответственно, московские политики в общениях с иностранцами сознательно замалчивали факты антирусских настроений и выступлений коренных сибиряков.
Характерно, что воеводам сибирских пограничных городов так же, как и послам, вменялось в обязанность скрывать реальное положение дел в Сибири и создавать образ твердого и надежного присутствия русских в данном регионе. В царской грамоте 1596 г. тарскому воеводе князю Ф. Елецкому прямо наказывалось, «чтоб бухарцы и нагайцы в городе никаких крепостей и людей не рос-матривали и не лазучили и с рускими людьми и с татары опричь торговли никоторых розговорных речей не говорили и нужи б сибирской никоторые не ведали, а росказы-вали б бухарцом и нагайцом, что сибирские городы добре людны и ничем не нужи, для того что писали к нам из Сибири в вестовых грамотах, что Кучюм царь з бухарцы и с на-гайцы ссылаетца и умышляет вместе и хотят на наши сибирские городы приходити» [Материалы, 1932. С. 108]. Эта довольно длинная цитата из источника отчетливо демонстрирует желание правительства, опасавшегося военной угрозы со стороны Кучума, пресечь возможность доступа иностранцев к какой-либо правдивой информации о Сибири, скрыть от них «нужу сибирскую» и проинформировать их об экономическом и демографическом благополучии края и твердом положении в нем русских. Можно предположить, что и в других наказах послам, особенно отправляемым в Азию, такая политика «сильного приукрашивания» состояния дел в Сибири выполняла, в частности, «защитную» роль от внешней опасности.
Учитывая то, что в последующее время правительство отошло от гипертрофирования русских успехов в Сибири, можно прийти к выводу, что использовать проанализированные дипломатические методы Москву вынуждали сложная внешнеполитическая ситуация конца XVI – начала XVII в. и твердое желание закрепить ново-приобретенные территории. По мере укрепления русских позиций в Сибири потребность дополнительной аргументации в пользу принадлежности Сибири России сходит на нет. Однако в посольской риторике и далее сохраняется жесткое выполнение традиции прописывания полного экономического благополучия региона, значительных экономических выгод, извлекаемых из обладания им и верноподданнического настроения его населения [Русско-индийские отношения…, 1958. С. 57, 109, 202].
Таким образом, совокупность источников свидетельствует о том, что московские политики, сообщая иностранным дипломатам преувеличенные данные о разгроме Ку-чума в 1598 г., а также убеждая их в благонадежности западносибирских аборигенов в период Смуты и не афишируя факты готовящихся антирусских восстаний в начале XVII в., конструировали выгодный для Русского государства образ Сибири и проводимой в ней политики. Скорее всего, Москва, используя такие дипломатические приемы, пыталась закрепить свои права на новые территории в Зауралье. По мере укрепления положения русских в Сибири, «сибирская тематика» в дипломатической документации стала появляться реже, а в ее состав перестали включать сильно искаженную информацию, что было характерно для дипломатических текстов конца XVI – начала XVII в., когда проблема закрепления за Россией «Сибирского царства» стояла наиболее остро за всю историю Сибири в составе России. Вместе с тем посольская информация была также призвана повысить престиж русского царя.
THE OFFICIAL IMAGE OF SIBERIA IN MOSCOW STATE OF THE END OF THE 16th – EARLY 17th CENTURY
This work focuses on the study of the diplomatic methods that formed an image of Siberia in the Russian State at the end of the 16th – early 17th centuries and how it was presented to foreigners. As a result of the study and comparison of the embassy documents and the sources of internal record keeping in Muscovy, the parameters of distortion of facts for foreigners about the evaluation of the defeat of Khan Kuchum in 1598 and the reliability of indigenous Siberian people in the Time of Troubles are analyzed. The conclusion is made about the overestimated success of the Russian policy in Siberia aimed at strengthening the rights of Moscow in this region and emphasizing the power of the Russian Tsar.
Кeywords : Siberia, diplomatic documentation, image, Kuchum, Time of Troubles, XVI-XVII с.
Список литературы Официальный образ Сибири в Московском государстве конца XVI – начала XVII века
- Акты времени междуцарствия (1610 г. 17 июля -1613 г.)/Под ред. С. К. Богоявленского, И. С. Рябинина. М., 1915. 240 с.
- Акты времени правления царя Василия Шуйского (19 мая 1606 -17 июля 1610 г.)/Сост. и ред. А. М. Гневушев. М., 1914. 421 с.
- Акты исторические, собранные и изданные Археографическою Комиссиею. СПб., 1841. Т. 2. 477 с.
- Зуев А. С. Российское государство и народы Сибири: характер и этапы взаимоотношений во второй половине XVI -начале XX в.: Учеб. пособие. Новосибирск, 2011. 188 с.
- Игнаткин П. С. К вопросу о дипломатических методах конструирования образа Сибири в Русском государстве в конце XVI -начале XVII в.//Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: Сб. материалов II Всерос. молодежной науч. конф./Под ред. Р. Е. Романова. Новосибирск: Параллель, 2012. С. 39-43.
- Каштанов С. М. Сибирский компонент в титулатуре московских государей XVI-XVII вв.//Общественное сознание населения России по отечественным нарративным источникам XVI-XX вв. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. С. 3-21. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. Ч. 1. 504 с.
- Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси сПерсией: В 3 т./Под ред. Н. И. Веселовского. СПб., 1892. Т. 2. 453 с.
- Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси сПерсией: В 3 т./Под ред. Н. И. Веселовского. СПб., 1898. Т. 3. 731 с.
- Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. СПб., 1852. Ч. 1: Сношения с государствами европейскими. Т. 2: Памятники дипломатических сношений с Империей Римской (с 1594 по 1621 г.). 1542 стб.
- Памятники дипломатических сношений Московского государства с Англией/Под ред. К. Н. Бестужева-Рюмина. СПб., 1883. Т. 2: С 1581 по 1604 г. 443 с.
- Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством/Под ред. С. А. Белокурова. М., 1913. Т. 5: 1609-1615 гг. 770 с.
- Посольская книга по связям России с Англией. 1613-1614 гг./Под ред. и с пре-дисл. В. И. Буганова; подгот. текста и вступ. ст. Н. М. Рогожина. М., 1979. 244 с.
- Преображенский А. А. Русские дипломатические документы второй половины XVI в. о присоединении Сибири//Исследования по отечественному источниковедению: Сб. ст., посвящ. 75-летию проф. С. Н. Валка/Под ред. Н. Е. Носова. М.; Л.: Наука, 1964. С. 383-390.
- Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI -начале XVIII века. М.: Наука, 1972. 392 с.
- Преображенский А. А. Некоторые итоги и спорные вопросы изучения начала при-соединения Сибири к России (по поводу книги Р. Г. Скрынникова «Сибирская экспедиция Ермака»)//История СССР. 1984. № 1. С. 101-118.
- Пчелов Е. В. Символы сибирского царства//Изв. Урал. гос. ун-та. Серия 2: Гуманитарные науки. 2009. № 4 (66). С. 13-22.
- Пчелов Е. В. Территориальный титул российских государей: структура и принципы формирования//Российская история. 2010. № 1. С. 3-16.
- Русско-индийские отношения в XVII веке: Сб. док./Под ред. К. А. Антоновой, Н. М. Гольдберг, Т. Д. Лавренцовой. М.: Вост. лит., 1958. 455 с.
- Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск: Наука, 1982. 254 с.
- Скрынников Р. Г. Ермак: Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1986. 160 с.
- Скрынников Р. Г. Ермак. М.: Молодая гвардия, 2008. 255 с.
- Трепавлов В. В. Западная Сибирь после Ермака: российское «царство» и татарский «юрт»//Российская история. 2012. № 2. С. 173-184.
- Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М., СПб.: «Альянс-Архео», 2006. 256 с.