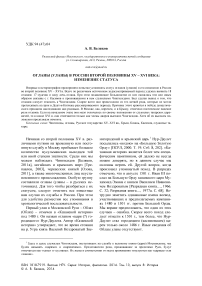Огланы (уланы) в России второй половины XV - XVI века: изменение статуса
Автор: Беляков Андрей Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Впервые в историографии предпринята попытка установить статус огланов (уланов) и его изменение в России во второй половине XV - XVI в. Всего по различным источникам за рассматриваемый период удалось выявить 18 огланов: 17 мужчин и одну дочь оглана. При этом подавляющее большинство из них оказались тем или иным образом связаны с г. Касимов и проживавшими в нем служилыми Чингисидами. Был сделан вывод о том, что огланов следует относить к Чингисидам. Скорее всего они происходили из тех ветвей рода, которые не могли претендовать на трон в Дешт-и-Кипчаке рассматриваемого периода. Причины этого кроются в победе династического принципа наследования над родовым. В Москве, как, впрочем, и в Крыму, отмечено постепенное падение роли огланов. Если на начальном этапе они мало отличались по своему положению от служилых татарских царевичей, то в конце XVI в. они отмечаются только как члены дворов выезжих Чингисидов. Хотя об их высоком положении продолжали помнить.
Чингисиды, огланы, русское государство xv-xvi вв., крым, казань, касимов, служилые татары
Короткий адрес: https://sciup.org/147219176
IDR: 147219176 | УДК: 94
Текст научной статьи Огланы (уланы) в России второй половины XV - XVI века: изменение статуса
Начиная со второй половины XV в. различными путями на временную или постоянную службу в Москву прибывает большое количество мусульманских выходцев той или иной степени знатности. Среди них мы можем наблюдать Чингисидов [Беляков, 2011а], ногайских и крымских мирз [Тре-павлов, 2003], черкасских князей [Озова, 2011], а также многочисленных лиц неустановленного происхождения. Особую группу составляли огланы (уланы – в русских источниках). Для того чтобы разобраться с их статусом, следует отметить все известные нам случаи их службы в России. При этом для удобства разместим все упоминания в хронологической последовательности.
Первый улан в Московской Руси – Облаз (Обляз) – отмечен в «Казанской истории» под 1480 г. Он назван огланом «царя (?) городецкого» Нур-Даулета. Автор «Казанской истории» утверждает, что во время стояния на р. Угра князь Василий Ноздроватый Зве- нигородский и крымский царь 1 Нур-Даулет посылались «водою» на «Большую Золотую Орду» [ПСРЛ, 2000. Т. 19. Стб. 8, 202]. «Казанская история» является более чем специфическим памятником, ей далеко не всегда можно доверять, но в данном случае мы склонны верить ей. Другой вопрос, когда произошел упомянутый поход. В разрядах отмечено, что в августе 1501 г. Иван III послал на Большую Орду казанского царя Му-хаммед-Эмина с князем Василием Ивановичем Ноздроватым [Разрядная книга…, 1966. С. 32; Разрядная книга…, 1977а. С. 68]. Нетрудно заметить одинаковые имена воевод, участвовавших в предполагаемых кампаниях 1480 и 1501 гг. против Большой Орды. Мы вправе предположить, что один из этих случаев – ошибка. Скорее всего поход следует отнести к 1501 г., тем более, что Нур-Даулет стал городецким (касимовским) царем только около 1486 г. Иные сведения об Облазе улане отсутствуют.
В 1487 г. из Казани в Москву выехал Бахтияр улан [Сб. РИО, 1884. Т. 41. С. 64– 65]. Где он проживал в России, неизвестно. В сентябре 1508 г. крымский хан Менгли-Гирей просил отпустить к нему сына Ду-улат-Берди (Даулет-Берды) улана – Бахтиар улана, который уже давно находился в России [Сб. РИО, 1895. Т. 95. С. 26]. Между этими упоминаниями лежит 21 год. Поэтому речь, по нашему мнению, надо вести о двух разных людях. Хотя нельзя исключать и того, что в источниках говорится об одном и том же человеке.
В 1493 г. в головах у мещерских казаков (людей касимовского царя Нур-Даулета) отмечен улан Курчь-булат. До этого он проживал в Крыму [Сб. РИО, 1884. Т. 41. С. 50, 52, 53, 57, 176].
В 1502–1504 гг. в Москве в плену находился некий Мамышек улан, брат Абагы улана, взятый в плен вместе с астраханцами людьми московского князя. Крымский хан Менгли-Гирей утверждал, что это его человек и просил отпустить его к себе [Там же. С. 446-447, 461, 491, 532].
В 1504 г. в Крым должны были отправить «кость» Нур-Даулета, а также жену и детей покойного князя Ямадыка и младшего брата Берди улана Али улана [Там же. С. 545]. Али улан входил в состав двора касимовского царевича Сатылгана, а до этого, по-видимому, числился во дворе его отца, царя Нур-Даулета.
В разрядных книгах в записях, датируемых июлем 1528 г., встречается упоминание Япанчи (Еланчи) улана. Тогда он вместе с казанским царем Шах-Али б. Шейх-Аулиа-ром и его братом, касимовским царевичем Джан-Али б. Шейх-Аулеаром, находился в Вязьме «от литовские украины». По данным разрядных книг, в приставах у царя был Федор Семенов сын Воронцов, а у царевичей – Андрей Клеопин Кутузов и Борис Ступи-шин. Поскольку по другим источникам нами не зафиксированы случаи, когда бы у одного Чингисида значилось более одного пристава [Беляков, 2011а. С. 165–216], мы имеем все основания предположить, что Б. Ступишин являлся приставом Япанчи улана [Разрядная книга…, 1966. С. 72; Разрядная книга…, 1977б. С. 205–206].
Весной-летом 1536 г. военный отряд служилых татар во главе с мирзой Галдеем городецким пленил шедшего из Казани «в иные орды» со многими людьми Тебенка улана и с ним 14 чел. Двадцать третьего июня улана доставили в Москву [ПСРЛ, 2000. Т. 13. С. 113].
В середине 40-х гг. XVI в. в результате борьбы части казанской знати против хана Сафа-Гирея в Московскую Русь из Казани отъехал Аз-Берди оглан [Моисеев, 2013. С. 27; Посольские книги…, 1995. С. 294, 320].
Летом 1551 г. вятчане на Каме пленили группу из 46 казанских «уланов и князей» (крымского происхождения?). По именам нам известны двое: Кощак оглан и Барбол-сун оглан [ПСРЛ, 2005. Т. 20. С. 483]. И. В. Зайцев, комментируя эти события, пишет о четырех огланах. Он ошибочно причисляет к ним. Торчи князя богатыря и Ишмухамеда Сулешова брата Крымского [2013. С. 147]. Все они в конечном счете по приказу Ивана IV были казнены «за их жес-тосердие».
Следующее по времени упоминание о казанских уланах (огланах) относится к лету-осени 1551 г., когда они сопровождали в Москву малолетнего казанского хана Утя-миш-Гирея и его мать ханшу Сююн-бике. Это были два сына оглана Кучака и сын ог-лана Ак-Мухаммеда [ПСРЛ, 2000. Т. 13. С. 167–168; Зайцев, 2013]. Сын Ак-Мухам-меда проживал в России до 1572 г., когда его отпустили к отцу, являвшемуся лидером казанской эмиграции в Крыму 2. Важно заметить, что сына Ак-Мухаммеда к этому времени уже крестили под именем Федора и титуловали князем. Это, пожалуй, единственный известный пример, когда представителя мусульманской знати, обращенного в православие, отпустили с Руси, не опасаясь того, что в Крыму он может вновь обратиться в ислам.
Еще одно свидетельство об улане, находившемся в пределах Московской Руси, зафиксировано в мавзолее касимовского и казанского царя Шах-Али б. Шейх-Аулиара. В середине XIX в. в этом мавзолее было обнаружено надгробие дочери улана Чура-Мухаммеда Хан-Пупай-бикем. В. В. Вельяминов-Зернов сделал предположение, что надгробие первоначально находилось за пределами царской усыпальницы и было перенесено сюда уже значительно позже [1863. С. 535–536; 1864. С. 6–16]. Иная информация об этом улане отсутствует.
Последний раз огланы / уланы в России отмечены в 1593 г. Один из них, Тохтар улан, входил в состав дворов крымских царевичей Гиреев, находившихся в России в изгнании – Мурад-Гирея и, возможно, его брата Саадет-Гирея, детей хана Мухаммед-Гирея II [Беляков, 2011а. С. 57–60, 212–216; Беляков, Виноградов, 2013]. После смерти царевичей и отпуска их жены, царицы Ерту-ган 3 осенью 1593 г. в Крым, оглана оставили в России, он содержался во Владимире (в тюрьме?) 4. Другой улан, Магмет-Али, также являлся членом двора упомянутых Гиреев. Он и его жена Авни-салтан были отпущены с Руси в Крым вместе с царевной Ертуган 5.
Следует отметить, что на рубеже XV– XVI вв. огланы активно перемещались между Казанью, Астраханью, Бахчисараем, Москвой и Литвой [Сб. РИО, 1884. Т. 41. С. 323]. Некоторые из них, скорее всего большеордынские, попадали в русский плен и, судя по документам, зачислялись на службу, превращаясь в служилых иноземцев. Однако в это время они относительно легко могли покинуть пределы Руси. Особенно активными были перемещения между Москвой и Бахчисараем. Скорее всего этому способствовал тот факт, что в Касимове в конце XV – начале XVI в. проживали крымские изгнанники – царь Нур-Даулет и его дети, царевичи Сатылган и Джанай, которые могли являться центром притяжения для части фрондирующей крымской знати. При этом, что вызывает особый интерес, огланы часто являлись крымскими послами в Россию [Сб. РИО, 1884. Т. 41. С. 17, 24, 58, 62, 65]. В статусе послов огланы отмечаются до середины XVI в. [Сб. РИО, 1887. Т. 59. С. 435]. В иные страны, в частности в Швецию, ог-ланы посылались еще и в XVII в.
Изначально «титул» оглан свидетельствовал о принадлежности его обладателя к Чингисидам: огланами именовали всех пред- ставителей «золотого рода» из династий Джучидов, Чагатаидов и Хулагуидов, не являвшихся правителями-ханами. В XV в. в этом значении «титул» оглан был вытеснен «титулом» султан, а огланами стали звать представителей тюрко-монгольской знати, занимавших по своему статусу промежуточное положение между султанами и не-чингисидами. Скорее всего, к огланам были отнесены представители тех ветвей рода Чингисхана, которые не обладали освященным традицией правом на ханский трон в том или ином регионе Дешт-и-Кип-чака.
М. Г. Сафаргалиев полагал, что огланы – это царевичи, по своему статусу напоминающие русских князей-изгоев. Их предки, хотя и принадлежали к потомкам Джучи, давно потеряли права на престол (или, скорее, возможность его занять) [1996. С. 365]. Однако известны примеры, когда ханами становились именно огланы. Так, отцом Улуг-Мухаммеда, основателя Казанского ханства, являлся Хасан-оглан [Исхаков, 2002]. Другое дело, что некоторые Чингиси-ды по неизвестным нам причинам отказывались от подобной ответственности, предпочитая находиться рядом с троном и оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику иными способами. В качестве примера можно привести Кучак-оглана, фактически возглавлявшего казанское правительство при ханше Сююн-бике. Д. М. Исхаков отмечает, что в Крыму огланы командовали собственными военными отрядами [1998 С. 192]. Некоторые исследователи видят в крымских уланах / огланах только «высокопоставленных дворян, отвечавших за управлением ханством» [Бенигсен, Ле-мерсье-Керкеже, 2009. С. 78]. По мнению В. В. Трепавлова, огланы во второй половине XV – первой половине XVI в. являлись представителями дома Джучи, не принадлежавшими к семье правящего хана, мужчины же правящего дома титуловались султанами [2010. С. 32]. Последняя трактовка, по нашему мнению, ближе всего к истине. Но здесь опять-таки требуются некоторые уточнения. В частности, в Крыму в рассматриваемое нами время среди знати, не принадлежавшей к правящему роду Гиреев, встречались обладатели как титула царевич, так и «титула» оглан. Да и в более ранний период русские источники по неизвестным ныне критериям различали их. Так, в 1403 г.
в Москву из Орды прибыл посол царевич Ентяк, а в 1432 г. – Мансыр [Селезнев, 2013, С. 237, 248; ПСРЛ, 2000. Т. 20, С. 219, 238]. Перед нами либо пример неустойчивого применения титулатуры оглан – царевич, либо же у данных терминов имелись определенные нюансы в их применении, ускользающие он нас. То, что для современников XV в. было само собой разумеющимся, для нас остается загадкой. В итоге приходится констатировать, что пока невозможно точно и бесспорно определить положение, статус и функциональную роль огланов в структуре тюркской элиты.
Основной массив первичной информации об огланах содержится в ранней русско-крымской посольской документации. При этом на рубеже XV–XVI вв. они, в отличие от более позднего периода, предстают перед нами как некая действенная политическая и военная сила. Огланы постоянно фигурируют в требованиях крымских ханов к московским великим князьям о присылке поминок их ближайшему окружению [Сб. РИО, 1895. Т. 95, С. 33, 389, 522, 609, 636, 642 и др.]. У них имелись собственные, по-видимому, крупные военные отряды, или же они возглавляли таковые по поручению крымских ханов в ходе военных действий [Там же. С. 41–42; Т. 41. С. 322–323]. Более того, отмечаются элементы их внутренней самоорганизации. Так, некий Девлет улан назван тестем и калгой Мамышека улана [Сб. РИО. Т. 95. С. 299]. Среди источников содержания огланов единожды отмечен некий «малой ясак», передававшийся по наследству [Сб. РИО, 1884. Т. 41. С. 545]. В отдельных случаях они селились в городах, подчинявшихся непосредственно турецкому султану и служили ему. Известно, в частности, что в 1519 г. Василий III послал грамоту Дербулат улану Азовскому [Сб. РИО, 1895. Т. 95. С. 628–629].
Возникают определенные параллели между ролью огланов в Крыму на рубеже XV– XVI вв. и ролью крещеных Чингисидов в России в правление Василия III. В Крыму, судя по сведениям сохранившихся источников, из огланов стремились создать некий буфер между ханской семьей и родовой знатью. Точно так же в Москве крещеные Чин-гисиды встали между семьей великого князя Московского и боярством. Возможно, подобная идея была позаимствована великим князем у крымского хана. На Руси она ока- залась неосуществимой вследствие пресечения новых родов князей-царевичей [Беляков, 2011б]. Не удалось воплотить ее в жизнь и в Крыму. Причину этого следует скорее всего искать в бурных и сложных перипетиях борьбы за крымский трон. Можно предположить, что в Крыму происходило постепенное умаление значения ог-ланов, так как шло измельчение и обеднение многих знатных татарских родов. Возраставшее с каждым новым поколением число наследников вынуждено было довольствоваться когда-то пожалованным источником доходов.
Отмечено присутствие огланов на рубеже XV–XVI вв. и в Касимове. Но последние в России никогда не именовались царевичами, хотя и пользовались почетом. Можно предположить, что в XV – первой половине XVI в. касимовских огланов было много. Но по именам мы знаем далеко не всех. При этом они имели самое прямое отношение к касимовским Чингисидам. Почти исключительно в XV – первой половине XVI в. огла-ны фиксируются в той или иной связи, в первую очередь военной, с касимовскими (городецкими) царями и царевичами. Известно также, что московские князья использовали их в войнах против Большой Орды, Литвы и, возможно, Казани. Однако нет никаких известий об источниках их доходов в России. Можно только предположить, что в случае проживания в Касимове, в составе дворов местных Чингисидов, касимовские огланы содержались на средства, выделяемые местным царям и царевичам. Согласно дошедшим до нас сведениям, положение этих огланов более всего схоже с положением крымского выходца из мангы-тов мирзы Канбары б. Мамая б. Мансура б. Эдиге, неоднократно возглавлявшего касимовских (городецких) татар в военных походах [Беляков, 2011а. С. 183–184]. Однако по статусу представителей «золотого рода» огланы все же были выше любого мангыта.
По-видимому, огланы оставили свой след в касимовской топонимике. Непосредственно к Касимову примыкает с. Уланова Гора. Сразу за селом располагалось обширное татарское кладбище [Гордлевский, 1927. С. 29]. Оно имеет интересную особенность: находится за городом и значительно возвышается над ним. Это самое высокое место в округе. Нечто подобное можно наблюдать на городище Старая Рязань. Здесь и сейчас лю- дей хоронят на высоком мысу, возвышающемся над церковью, находящейся у его подножья. Можно предположить, что это было сделано из-за желания оказаться ближе к богу. Подобная практика встречалась у монголов в добуддийский период. На настоящий момент мы не знаем наверняка, был ли у с. Уланова Гора похоронен кто-либо из касимовских уланов / огланов конца XV – первой половины XVI в. Однако название топонима явно не случайно и указывает на присутствие огланов в Касимове. Следует сказать, что с середины XVI в. этот город рассматривался представителями «золотого рода» на Руси как место сосредоточения родовых гробниц [Беляков, 2011а. С. 148–159]. Однако этот процесс, возможно, начался несколько раньше и первоначально был связан с огланами.
Возвращаясь к статусу огланов в России, следует отметить, что он не был постоянным. Вначале их статус немногим уступал положению служилых Чингисидов. В частности, как первым, так и вторым во время участия в военных действиях был положен особый пристав из числа членов двора великого князя московского. С одной стороны, он должен был осуществлять общий надзор за представителем «золотого рода» и его военным отрядом, а с другой – в его обязанности входило обеспечение их всем необходимым. Помимо прочего наличие пристава подчеркивало особое положение человека, при котором он находился. Главное отличие огланов от Чингисидов заметно в отсутствии практики пожалования огланам в кормление городов. К тому же мы можем только догадываться о том, как юридически оформлялось нахождение огланов в русских землях и как функционировало их право отъезда. Нам неизвестны крепкие грамоты, выдаваемые огланам, и выдавались ли они им вообще [Хорошкевич, 2001. С. 275–296]. Скорее всего они пользовались более свободным правом отъезда по сравнению с мусульманами более низкого ранга. Как раз это и могло привлекать их в Россию.
В ряде случаев, когда огланы выполняли посольские функции от имени крымского хана, возникали определенные этикетные коллизии. Являясь Чингисидами, они по своему статусу на рубеже XV–XVI вв. формально были выше любого Калитича. В настоящее время нам трудно представить, как могла проходить подобная встреча великого князя с послом в Московском Кремле, и как оценивал московский великий князь присылку подобных послов.
Во второй половине XVI в. об особом статусе огланов, по-видимому, продолжали помнить. Косвенно об этом может служить насильственное задержание в России (на положении заложника?) Тохтар улана. Однако в дальнейшем их статус явно понижается. Это заметно уже по тому, что они упоминаются только в составе дворов выезжих Гиреев, а не отдельно, как те же крымские мирзы Кулюковы и Яшлавские (Сулешевы). Да и в Крыму об их возвращении никто не хлопотал.
Подытоживая, мы можем высказать мнение, что причину появления огланов / уланов как особой социальной группы следует видеть в победе в государствах – наследниках Золотой Орды – династического (семейного) принципа передачи власти над родовым. Данный процесс начался еще в XIV в. и к концу XV в. завершился. Продвижение России на Восток постепенно сокращало возможности выбора огланами места жительства. На какое-то время Крым стал наиболее предпочтительным местом. Московская же Русь из-за постепенного ужесточения контроля над служилыми иноземцами восточного происхождения и ограничения права отъезда не могла стать конкурентной альтернативой. Но эти наши наблюдения являются пока предварительными, и социальный институт огланов XV–XVI вв. еще ждет своего специального развернутого исследования.
OGLANS (UHLANS) IN RUSSIA OF THE LATTER HALF OF XV UNTIL XVI CENTURIES: STATUS CHANGE
Список литературы Огланы (уланы) в России второй половины XV - XVI века: изменение статуса
- Беляков А. В. Чингисиды в России XV-XVII веков: просопографическое исследование. Рязань: Рязань-Мiр, 2011а. 512 с.
- Беляков А. В. Крещение Чингисидов в России//Российская история. 2011б. № 1. С. 107-115.
- Беляков А. В., Виноградов А. В. Мурад-Гирей -служилый Чингисид в России или претендент на крымский престол?//Тюркологический сборник: 2011-2012: Политическая и этнокультурная история тюркских народов и государств. М., 2013. С. 11-59.
- Бенигсен А., Лемерсье-Келькеже Ш. Крымское ханство в начале XVI века: от монгольской традиции к османскому сюзеренитету по неопубликованным документам из Османского архива//Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей: Сб. ст. Казань, 2009. С. 68-85.
- Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1863. Ч. 1. 558 с.
- Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1864. Ч. 2. 498 с.
- Гордлевский В. А. Элементы культуры у касимовских татар. (Из поездки в Касимовский уезд)//Тр. Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1927. Вып. 10. 35 с.
- Зайцев И. В. Судьба аристократа. Ак-Мухаммад оглан и сын его Федор//Золотоордынское обозрение. 2013. № 2. С. 146-157.
- Исхаков Д. М. От средневековых татар к татарам Нового времени (Этнологический взгляд на историю волго уральских татар XV-XVII вв.). Казань: Мастер Лайн, 1998. 276 с.
- Исхаков Д. М. О родословной Улуг-Мухаммеда//Тюркологический сборник 2001: Золотая Орда и ее наследие. М., 2002. С. 63-74.
- Моисеев М. В. Политическая борьба казанской знати: историография и русские источники//Средневековые тюрко-татарские государства. Казань, 2013. Вып. 5. С. 20-30.
- Озова Ф. А. К вопросу о союзах Ивана Грозного с князьями Черкесии//Российская история. 2011. № 6. С. 73-86.
- Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489-1549 гг. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1995. 360 с.
- Полное собрание русских летописей (Никоновская летопись). М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 13. 544 с.
- Полное собрание русских летописей (История о Казанском царстве). М.: Языки русской культуры, 2000. Т. 19. 328 с.
- Полное собрание русских летописей (Львовская летопись). М.: Языки русской культуры, 2005. Т. 20. 704 с.
- Разрядная книга 1475-1598 гг. М.: Наука, 1966. 614 с.
- Разрядная книга 1475-1605 гг. М.: Ин-т истории СССР АН, 1977а. Т. 1, ч. 1. С. 1-188.
- Разрядная книга 1475-1605 гг. М.: Ин-т истории СССР АН, 1977б. Т. 1, ч. 2. С. 189-406.
- Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды//На стыке континентов и цивилизаций. Из опыта образования и распада империй X-XVI вв. М., 1996. С. 280-526.
- Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и Ко., 1884. Т. 41. 631 с.
- Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб.: Тип. Ф. Елеонского и Ко., 1887. Т. 59. 630 с.
- Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб.: Т-во С. П. Яковлева, 1895. Т. 95. 786 с.
- Селезнев Ю. В. Русские князья в составе правящей элиты Джучиева Улуса в XIII-XV веках. Воронеж: Центрально Черноземное кн. изд-во, 2013. 472 с.
- Трепавлов В. В. Российские княжеские роды ногайского происхождения (генеалогические истоки и ранняя история)//Тюркологический сборник: 2002: Россия и тюркский мир. М., 2003 С. 320-353.
- Трепавлов В. В. Большая Орда -Тахт эли. Очерки истории. Тула: Гриф и К, 2010. 112 с.
- Трепавлов В. В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М.: Вост. лит., 2012. 231 с.
- Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV -начало XVI в. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 336 с.