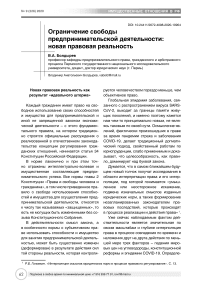Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
Автор: Болдырев Владимир Анатольевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право
Статья в выпуске: 9 (228), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется деформация подхода к ограничению свободы предпринимательской деятельности в результате «идеального шторма» - совпадения по времени факторов пандемии, снижения мировых цен на углеводороды и конституционной реформы. Делаются выводы о целесообразности в ходе регулирования общественных отношений на период социальных и иных катаклизмов использования при конструировании нормативных правовых актов терминологии и кодов, отраженных в официальных классификаторах, оперирования данными публичных реестров при условии их своевременной актуализации, исключения принятия и поддержки властью процедур, стимулирующих недобросовестное поведение ее представителей.
Ограничение свободы предпринимательской деятельности, коронавирусная инфекция, интерполяция права, официальные классификаторы, разница между типологией и классификацией
Короткий адрес: https://sciup.org/170173167
IDR: 170173167 | DOI: 10.24411/2072-4098-2020-10904
Текст научной статьи Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
Новая правовая реальность как результат «идеального шторма»
Каждый гражданин имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности – с этого фундаментального правила, на котором традиционно строятся официальные рассуждения о реализованной в отечественном законодательстве концепции регулирования гражданских отношений, начинается статья 34 Конституции Российской Федерации.
В норме лаконично и при этом точно отражены интеллектуально-волевая и имущественная составляющие предпринимательского успеха. Все нормы главы 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина», в том числе приведенное правило о свободе использования способностей и имущества для осуществления предпринимательской деятельности, относятся к числу так называемых «защищенных», то есть не могущих быть измененными без созыва Конституционного Собрания.
В действительности смысл закона, а в особенности нормы о субъективном праве использовать способности и имущество для занятия предпринимательской деятельностью, может быть существенно изменен (деформирован) в результате действия сил той стороны реальности, которая контроли- руется человечеством гораздо меньше, чем объективное право.
Глобальная эпидемия заболевания, связанного с распространением вируса SARS-CoV-2, выходит за границы памяти живущих поколений, и именно поэтому кажется нам чем-то принципиально новым, не являясь таковым по своей сути. Осмысление явлений, фактически произошедших в праве за время пандемии страха и заболевания COVID-19, делает традиционный догматический подход, свойственный работам по юриспруденции, слабо применимым и доказывает, что целесообразность, как правило, доминирует над буквой закона.
Думается, что в самом ближайшем будущем новый толчок получат исследования в области интерпретации права и его интерполяции, под которой понимается «умышленное или неосторожное искажение, подмена изначальных смыслов изданных юридических норм, а также формирование незапланированных законодателем правовых последствий, которые происходят в процессе реализации и действия права» 1.
Уже сейчас наблюдаемым фактом действительности является значительная по своим масштабам и глубине интерполяция права в процессе совпадения по времени и наложения друг на друга действия по меньшей мере трех факторов – падения мировых цен на углеводороды, конституционной реформы и эпидемии COVID-19. Определе- ние параметров возникшего в российской правовой действительности «идеального шторма», сопровождаемого качественными изменениями права и правосознания общества в целом, должно быть осмыслено как результат совместного действия объективных факторов, к числу которых можно отнести интересы наиболее активных и влиятельных социальных групп.
Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (абзац 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). На деле и до пандемии COVID-19 предпринимательская деятельность ограничивалась по целому ряду направлений, то есть декларируемая в приведенном легальном определении самостоятельность предпринимательской деятельности была весьма относительной и ранее. Как справедливо отмечает О.Н. Ермолова, «анализ положений законодательства о предпринимательской деятельности позволяет выделить и сформулировать принцип, являющийся противоположным по содержанию принципу свободы, — принцип ограничения свободы предпринимательской деятельности в общегосударственных интересах» 2.
Подробно описывать все ограничения, которые возводит современное законодательство на пути свободного занятия предпринимательством, не имеет никакого смысла. Достаточно упомянуть, что они обусловлены действием норм целого ряда ин- ститутов гражданского права и комплексных правовых образований: о регистрации лиц, действий и прав, о лицензировании, об ограничении монополистической деятельности, о ведении информационных ресурсов, об обязательном подтверждении соответствия товаров, работ и услуг различным стандартам, об участии в саморегулируе-мых организациях и многих других.
Особенностью ситуативного нормативного регулирования отношений, связанных с реализацией конституционного права на использование способностей и имущества для занятия разрешенной экономической деятельностью, введенного на период пандемии COVID-19, заключается в том, что чрезвычайными по своему характеру обстоятельствами было предопределено рождение чрезвычайных по своему содержанию норм, принятых в чрезвычайном же по используемым процедурам порядке.
Конгломерат, а не система нормативных правовых актов, ограничивающих свободу предпринимательской деятельности, принятых на федеральном и региональных уровнях ad hoc (для данного случая, связанного с пандемией), очень плохо сопрягался и сопрягается с нормами разработанного и принятого задолго до этого законодательства о чрезвычайных ситуациях 3, чрезвычайном положении 4 и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 5, о чем, несомненно, будут написаны увесистые, содержательные и весьма убедительные работы по результатам ретроспективного анализа свершившихся и продолжающих свершаться событий.
Доработка конкретных норм названных блоков законодательства – сложнейшая и очень важная задача для специалистов в области права, прежде всего права административного. Свою задачу, связанную с областью цивилистики, мы видим в предложении адекватных нормативных моделей и согласованных с ними правоприменительных практик, которые позволили бы наработки в области гражданского права и его повседневного применения эффективно использовать и адаптировать для особых ситуаций. Такая конверсия может оказаться необходимой в любой момент.
В представленной работе мы сознательно обходим целый ряд проблем, которые можно без преувеличения назвать архиважными, но требующими отдельного глубокого осмысления – анализа на стыке права, политики и экономики. Тем не менее обозначить эти проблемы мы считаем своим долгом.
Во-первых , требуется выяснение, насколько фактически введенные подзаконными актами федеральных органов власти и реально необходимые ограничения свободы предпринимательской деятельности могли быть помещены в систему действовавших норм федеральных законов. Выяснение возможности принятия нормативных актов в канве формального и сущностного соответствия ранее принятым законам требуется прежде всего для моделирования на будущее наиболее рациональных моделей поведения со стороны государства, которые обеспечивали бы максимальное сохранение максимального уважения к объективному праву. Праву стабильному, действие которого возобновится по мере отпадения или уменьшения риска для жизни и здоровья граждан.
Во-вторых, требуется качественно новый подход к решению вопроса о том, насколько допущенные государством формальные нарушения порядка введения ограничений свободы предпринимательской деятельности могут служить основанием для возмещения убытков, причиненных актами власти. Точное следование букве закона по формуле «нарушение, повлекшее убытки, влечет применение экономических санк- ций», на наш взгляд, в большинстве случаев будет противоречить духу закона.
В-третьих , отдельной оценке должна быть подвергнута обоснованность принятия на федеральном и региональном уровнях решений о сохранении возможности работать для наиболее важных («системообразующих») предприятий, которые могут или должны продолжить работу в период действия самых разных факторов чрезвычайного порядка. Возможности создания преференций для предприятий по критерию масштаба экономической деятельности безотносительно к критичности остановки работы для жизнеобеспечения населения, должно быть уделено больше внимания.
В-четвертых , осмысление предпринятых мер ограничения свободы предпринимательской деятельности и возможных границ таких мер на будущее должно происходить с одновременным обсуждением принципов работы компенсаторных механизмов – дотаций работающим предприятиям и предприятиям, приостановившим работу. Понимание параметров и условий, в рамках которых управленцы предприятий, локализованных в крупных мегаполисах, могли бы по результатам оценки рисков принять решение о продолжении работы или, наоборот, о ее приостановке, рассчитывая на разный объем дотаций, выделяемых по прозрачным каналам и понятным критериям, – важное направление укрепления доверия предпринимательского сообщества к властям.
Изменение устоявшихся границ свободного использования способностей и имущества для осуществления разрешенной экономической деятельности оказалось связанным:
-
• с ограничением свободы возможности продолжения начатой ранее предпринимательской деятельности посредством закрепления модели нерабочих дней нормативными правовыми актами федерального уровня весной 2020 года 6, а также введения прямых
запретов и исключений из них актами регионального уровня;
-
• с ограничением свободы выбора контрагентов, содействующих осуществлению процесса разрешенной предпринимательской деятельности , ввиду прямых запретов на работу и фактического отказа от работы части предпринимателей в связи с потерей эффективности и рентабельности их процессов;
-
• с ограничением условий осуществления предпринимательской деятельности (места, времени, интенсивности обслуживания клиентуры).
В настоящей работе проводится анализ использования различных приемов и практик ограничения законной предпринимательской деятельности посредством введения временного запрета на ее осуществление. Такие запреты вводились с использованием критериев (1) характера деятельности и (2) вида объектов гражданских прав, которые могут и не могут быть использованы в ее процессе. Кроме того, практика показала, что фактическое ограничение предпринимательской активности стало прямым следствием применения различных практик принятия органами публичной власти решений о разрешении и запрете ведения деятельности конкретных участников гражданского оборота.
Использование в правовых практиках властей данных официальных классификаторов и публичных реестров для оценки возможности продолжения предпринимательской деятельности
Обращение в настоящей работе к категории «использование практик», типичной для ряда социальных наук, но не устоявшейся в российской цивилистике, обуслов- лено тем, что активность региональных и местных властей в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией часто нельзя было назвать ни правоприменительной, ни нормотворческой деятельностью.
Например, составление муниципальными служащими актов, отражающих факты работы отдельных магазинов, является практикой правовой, направленной на сбор доказательств, но никак не собственно правоприменением.
Другой пример: создание на муниципальном уровне документов о формировании реестров предпринимателей, продолжающих свою деятельность в период пандемии (информационных баз, не запрещаемых, но и не поощряемых законом), также является практикой правовой, поскольку в большинстве регионов не запрещено, но и не базируется на конкретных нормативных установлениях.
Обращение к региональному и местному уровням правового взаимодействия субъектов и проблемам, с которыми они столкнулись, будет более понятным после обращения к федеральному уровню.
Напомним, что Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ № 206) в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года. В рамках положений этого нормативного правового акта целый ряд субъектов предпринимательской деятельности могли организовать работу своих предприятий вопреки основной идее нормативного правового акта. Спустя время можно констатировать, что так и получилось. Однако наша задача не критиковать разработчиков нормативного документа, стесненных фактором времени, а показать суть проблемы.
Для значительной части правопослушных работодателей введение нерабочих дней означало невозможность осуществлять деятельность, приносящую доход. В числе трудящихся, на которых не распространялось правило о нерабочих днях, Президент Российской Федерации назвал работников «организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости» (подп. «в» п. 1 Указа № 206).
При таком подходе у правоприменителя не могли не возникнуть уточняющие вопросы. Работая на опережение, спустя два дня Правительство Российской Федерации утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости 7, снабдив правовой акт руководством к действию: «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации» (п. 2 распоряжения № 762-р).
За руководством к действиям, адресованному властям регионов, следовало предложение, транслированное предпринимательскому сообществу: «При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень» (п. 4 распоряжения № 762-р).
Для деловых людей суть фактического предложения очевидна: поскольку продажа товаров первой необходимости дает вам возможность продавать все остальное, вы можете торговать «всем остальным», выставив на прилавки товары пер- вой необходимости, которые раньше не продавали. Именно так и стали действовать предприниматели, которые были морально готовы к несению рисков критического осмысления властями низового уровня принятых федеральными властями правовых актов. Как следствие, во многих непродовольственных магазинах появились товары, совершенно не соответствующие традиционному для этих магазинов ассортименту. Стало очевидно, что на местном уровне проблему нужно как-то решать. Решение увидели в применении различных ограничительных практик – процедур дозволения работать, о чем будет сказано далее.
В тесте Указа № 206, как уже было сказано, использовался термин «продукты питания», казалось бы, простой для понимания. Обманчивость этой простоты стала видна при попытках осмыслить, насколько в условиях режима повышенной готовности алкогольная продукция может считаться продуктом питания, то есть относящейся к товарам, значимость которых для общества не допускает остановки процесса их розничной продажи.
В отечественной системе законодательства термин «продукты питания» встречается гораздо реже термина «пищевая продукция». Если быть точным, то использование в нормативных актах термина «продукты питания» является, скорее, исключением, чем нормой.
В статье 1 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» между терминами «пищевая продукция», «продовольственные товары» и «продукты питания» ставится знак равенства, с оговоркой, что дальнейшая дефиниция дается только в целях толкования этого закона. Согласно закону напитки, в том числе алкогольные, – это пищевая продукция, а значит, и товар, которым торговать не только можно, но и нужно даже в нерабочие дни.
I
Соотношение категорий «пищевая продукция» и «напитки»: закон и официальные классификаторы
Иная картина складывается в случае с официальными классификаторами. Здесь напитки рассматриваются в качестве самостоятельного по отношению к пищевым продуктам класса товаров. И при этом некоторые виды напитков (например молоко и соки) рассматриваются как пищевые продукты (см. таблицу).
Термин «продукты питания» в указах Президента Российской Федерации о нерабочих днях 8 региональные власти, как о том можно судить с дистанции времени, понимали широко, осознавая, что узкое толкование (исключающее алкогольные напитки) неизбежно приведет к выбросу на черный рынок суррогата алкоголя, который неизбежно заместит алкоголь легальный. Однако в Забайкальском крае 9, Республике Тыва 10 и некоторых муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) 11 на несколько суток вводился полный запрет розничной торговли алкоголем.
Если бы при конструировании норм первого и последующих указов Президента России об объявлении нерабочих дней вместо термина «продукты питания» нормот-ворец оперировал категориями «продукты пищевые (класс 10) и напитки (класс 11)», с привязкой к Общероссийскому классифи- катору продукции по видам экономической деятельности 12 (далее также – ОКПД), не было бы и запретов торговли алкоголем, давших обратные ожиданиям негативные последствия для регионов, о чем свидетельствует в числе множества факторов отмена введенных запретов в течение нескольких дней.
Узкому пониманию властями восточносибирских регионов термина «продукты питания», несомненно, способствовали положения документов особой правой природы – официальных классификаторов: Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее также – ОКВЭД) 13 и ОКПД. Свою роль сыграло и бытовое значение соответствующего словосочетания.
Терминологию классификаторов с указанием конкретных кодов следовало использовать в праве времени действия региональных режимов повышенной готовности, но это стало осознаваться лишь спустя время, причем при подготовке как региональных 14, так и федеральных нормативных правовых актов. На первоначальном этапе нормотворец опрометчиво полагался на общеупотребительное значение слов.
Отдельно рассмотрим вопросы, касающиеся ОКВЭД. «В основе его формирова-
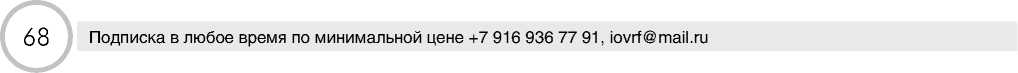
ния находится Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC), – отмечают Н.С. Козырь и В.С. Коваленко. Далее авторы поясняют: «Эта классификация была разработана департаментом по экономическим и социальным вопросам секретариата ООН еще в 1948 г. и за все время своего существования претерпела ряд изменений и переизданий. Ряд стран не перешли на свою отраслевую классификацию, а до сих пор используют МСОК» 15.
Основные отраслевые классификаторы стран – участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (далее – АТЭС) (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), их системные достоинства и недостатки применительно к правовым системам Гонконга, США, Сингапура, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Малайзии, Китая, Японии, Тайланда, Чили и Филиппин приведены в работе Н.С. Козырь и В.С. Коваленко [10, с. 1921–1922].
Перечисление национальных право-порядков обусловлено тем, что авторы подчеркивают: «По-прежнему остается неразрешенной проблема учета видов экономической активности отдельных хозяйствующих субъектов, которые имеют несколько направлений деятельности (например, производство, обработка, торговля и общественное питание в рамках одного юридического лица)» [10, с. 1919–1920]. Вывод, сделанный в приведенной цитате, особенно ценен для нас, поскольку российский подход к вопросу о роли отраженных в пу- бличном реестре основных и дополнительных видов экономической деятельности для целей регулирования отношений частноправового характера не может считаться достаточно определенным. И в этом смысле российская правовая концепция «квалифицированного умолчания» законодателя, то есть обхода проблемы посредством отказа формулировать четкие правила игры, находится в общемировом тренде, наблюдаемом на уровне стран АТЭС.
Отсюда и проявившаяся в период локда-уна (lockdown) – режима, при котором людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны для полного или частичного ограничения социальных контактов, – склонность предпринимателей к расширению спектра видов экономической деятельности, отраженных в реестре, с целью попасть в число бизнесов, работа которых прямо разрешена или не запрещена властями.
В рамках российской правовой действительности можно прогнозировать повышение внимания к ОКВЭД в связи с включением 16 в законодательство о банкротстве 17 юридической конструкции моратория на возбуждение дел о банкротстве и последовавшего за ним введения 18 моратория для наиболее пострадавших отраслей экономики 19 с прямой привязкой к кодам экономической деятельности именно в период активной борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
К сожалению, правоведами до сих пор не проведен серьезный анализ проблемы действительного или декларируемого са- моограничения экономической деятельности посредством указания при регистрации юридического лица или получении статуса индивидуального предпринимателя видов осуществляемой экономической деятельности.
Так, несущим внутреннюю противоречивость можно назвать следующее утверждение О.А. Малютиной: «Определяя сферу деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, субъект, обладающий соответствующим правом, сознательно выбирает вид деятельности, осуществление которого возможно только после соблюдения соответствующих процедур (например, при строительстве зданий необходимо не только пройти регистрацию в установленном порядке, но и получить лицензию, вступить в саморегулируемую организацию в соответствующем регионе)» 20. Относительно сказанного автором следует заметить, что заполняя форму заявления о регистрации и указывая вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, предприниматель не связывает себя «обещанием» осуществлять деятельность только в рамках основного и дополнительных видов экономической деятельности 21, которым отведено место в реестре. Предпринимательская правоспособность по общему правилу имеет общий характер. Однако в такой ситуации О.А. Малютина, по-видимому, имела бы все основания возразить, что в судебной практике имеются случаи 22, когда суды исходят из возможности привлечения к административной ответственности за осуществление экономической деятельности без указания в реестре соответствующего вида деятельности с кодом по ОКВЭД. Это, на наш, взгляд, свидетельствует о далеко не идеальном характере решения законодателя, поскольку обойти проблему путем сохранения молчания о цели фиксации данного параметра в реестрах, в конечном итоге не удается.
В исследованиях экономистов отмечается: «И судебная практика, и письма Минфина России подтверждают, что предприниматель не подлежит ответственности за осуществление видов деятельности, не указанных в ЕГРИП или ЕГРЮЛ» [10, с. 1916]. Однако далее следует не умещающееся в рамки современных правовых стандартов утверждение: «Если устранить данный недостаток ОКВЭД, существенно облегчится сравнительный анализ предприятий, поскольку на данном этапе при структурировании и сравнении показателей нет учета дополнительных направлений деятельности организаций» (там же).
За приведенным предложением устранить недостаток ОКВЭД, по-видимому, кроется стремление позволить лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, действовать только в рамках заявленных и внесенных в реестры видов экономической деятельности. Как об этом можно судить из приведенного текста, по мнению Н.С. Козыря и В.С. Коваленко, принцип свободы предпринимательской деятельности должен получить еще и процедурное ограничение: до тех пор, пока орган государственной власти, отвечающий за ведение реестров, – Федеральная налоговая служба 23, не внес по заявлению хозяй- ствующего субъекта в реестр запись о виде деятельности, осуществлять такой вид деятельности нельзя.
Относительно такого подхода к решению проблемы можно сказать следующее.
Во-первых, решение задач статистического и иных видов наблюдения за экономическими процессами является вторичным по отношению к решению задачи создания в праве возможности оперативной реакции на изменения рынка и его наполнения требующейся продукцией.
Во-вторых, при реализации предложенного подхода на практике субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность, будут искусственно «раздувать» списки дополнительных видов деятельности, включая и те виды (коды) деятельности, занятие которыми имеет лишь гипотетический характер.
Стремление сделать инструментарий наблюдения за экономическими процессами более эффективным, когда оно переходит разумные границы, наносит большой ущерб основным процессам, имеющим действительную ценность для общества.
К слову, в содержании ОКПД имеется ряд парадоксальных решений, например: «Как пищевые продукты в классе 10 классифицируются шерсть стриженая, шкуры и кожи сырые (код 10.11.4), сырье перо-пуховое (код 10.12.5), а также субпродукты, непригодные для употребления в пищу, необработанные, такие как кость слоновая, панцири черепах, ус китовый и другие субпродукты, которые практически являются результатами деятельности в области сельского хозяйства и охоты и должны классифицироваться в классе 01» 24.
Во введении к классификаторам прямо указано:
-
• ОКПД построен на основе гармонизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) – Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) 25;
-
• ОКВЭД построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) 26.
Налицо парадокс: документы, входящие в национальную систему стандартизации, предназначены для решения задач статистического наблюдения (см. [12, с. 92]). В связи с этим чрезмерное увлечение классификаторами при управлении экономическими процессами опасно.
В то же время понимание важности рациональной классификации и актуальных классификаторов для правильной организации работы с «большими данными» – структурированными и неструктурированными данными огромных объемов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами нового тысячелетия – очевидно для специалистов в области информационных технологий. Учитывая, что в широком смысле о «больших данных» (big data) говорят как о социально-экономическом феномене 27, использование классификаторов может оказаться критически необходимым для правильной организации потоков информации, а значит, и слаженной работы элементов социума, в том числе в условиях вынужденного отказа от дальнейшей глобализации экономики.
Сама разработка классификаторов является прямым следствием отношений, связанных со стандартизацией. В силу статьи 20 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее – Закон № 162-ФЗ) порядок разработки, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов устанавливается Правительством Российской Федерации. При буквальном и оторванном от иных частей нормативного правового акта прочтении приведенного правила можно прийти к выводу о том, что речь идет о неком едином порядке, который должен быть утвержден Правительством Российской Федерации для разработки всех классификаторов. Однако это не так.
В пункте 7 статьи 2 Закона № 162-ФЗ дается следующее определение: «общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации – документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Учитывая, что в статье-глоссарии Закона № 162-ФЗ дается прямое указание на использование в дальнейшем термина «общероссийский классификатор» в качестве синонима более сложного составного термина «общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации», получаем вывод, согласно которому единый порядок разработки, ве- дения, изменения и применения классификаторов устанавливается в силу закона Правительством Российской Федерации только в отношении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. В развитие положений закона исполнительной властью принят соответствующий нормативный правовой акт 28.
Парадокс конструирования Закона № 162-ФЗ в том, что, регулируя вопросы стандартизации, то есть решая задачи типизации, придания каждой группе явлений (а значит, и терминов их обозначающих) фиксированного, строго определенного значения, разработчики были вынуждены оперировать внутри самого закона терминами для целей конструирования лишь одного нормативного правового акта, то есть в разрез с одной из его генеральных идей.
Этот феномен укладывается в диалектический закон единства и борьбы противоположностей. С позиции практики системного нормотворчества он подтверждает оправданность решений законодателя об использовании терминов в специальном значении, то есть для целей понимания одного нормативного правового акта.
Следует заметить, что официальные классификаторы, несмотря на свое название, являются следствием стремления систематизировать явления с использованием принципа типологии (при котором критериев деления несколько), а не классификации (при котором существует единый строгий критерий).
В.Б. Першин и И.В. Першина справедливо отмечают: «При классификационном делении каждый объект множества попадает в одну из групп, между которыми имеются четко фиксируемые различия. Оно осуществляется без остатка. Типологизацион-ному делению подлежат множества, в которых плавность переходов качественных состояний не позволяет проводить резкие границы между группами изучаемых объектов» 29.
Идея, согласно которой попытки систематизировать те или иные явления на основании официальных классификаторов могут быть связаны как с типологией, так и с классификацией, отнюдь не новы для самых разных отраслей науки и хозяйствования. В юриспруденции понимание разницы между типологией и классификацией понимается хорошо и четко прослеживается на доктринальном уровне 30.
«Ни одна классификация, как бы ее ни называли … – несовершенная, естественная, нестандартная, несовершенная, нежесткая, переходная, предварительная по отношению к типологии – не является типологией, и ни одна типология не есть классификация», – пишут уже упомянутые исследователи в работе [15, с. 5].
Однако в процессе нормотворчества неизбежны «сглаживания углов» и смешение сущностей. Следствием процесса типо-логизации зачастую становится документ с официальным названием «классификатор». Поскольку типичным следствием «сглаживания углов» является утрата части смысла термина из определенной области, подготовка нормативных правовых актов на базе универсальных для всех разработчиков значений терминов остается явлением, скорее, умозрительным.
В то же время, несмотря на широкое использование «искусственного» терминологического аппарата для целей конструирования конкретных нормативных актов периода стабильного правоприменения, оно оказывается малопригодным для разработки документов в целях регулирования отношений на период действия чрезвычайных факторов, требующих быстрой реакции на развитие событий. Причина этого кроется в большой сложности передачи и конвертации данных без искажения между разными социальными системами, в том числе между органами власти. Использование официальных классификаторов, в силу закона прямо предназначенных для межведомственного взаимодействия, может обеспечить передачу смыслов между социальными структурами без существенных искажений.
Таким образом, в период борьбы с социальными и природными катаклизмами при конструировании нормативных правовых актов, ограничивающих деятельность предпринимателей, предпочтительно использовать терминологический аппарат и коды официальных классификаторов, специально разработанных для межведомственного взаимодействия и облегчающих быструю и однозначную передачу смыслов в системе управления экономическими и иными процессами, поскольку скорость передачи и обработки информации имеет в таких случаях решающее значение.
Список литературы Ограничение свободы предпринимательской деятельности: новая правовая реальность
- Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Головкин Р. Б. Интерполяция смыслов юридических норм в процессе правового регулирования // Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития : Международный сборник научных трудов. Выпуск 4. М. : Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Владимирский филиал / отв. ред. Д. А. Зыков. Владимир, 2014. С. 12-28.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Ермолова О. Н. Принципы свободы и ограничения предпринимательской деятельности: реализация в нормативном регулировании и правоприменении // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 3 (116). С. 142-146.
- Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней : Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости : распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р. URL : http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202003300002 (дата обращения: 13.07.2020).
- О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150.
- ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
- ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Козырь Н. С., Коваленко В. С. Метрика отраслевой классификации в Рос-
- сийской Федерации и за рубежом // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 10. С. 1914-1927.
- Малютина О. А. Правовые ограничения предпринимательской деятельности в России // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 550-553.
- Берновский Ю, Григорьев А. Сохранить общероссийский классификатор продукции для стандартизации // Стандарты и качество. 2015. № 11 (941). С. 90-92.
- О стандартизации в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3953.
- Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации : постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 2019 года № 733 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 24, ст. 3093.
- Першин В. Б., Перши на И. В. Классификация и типология: логико-методологический анализ // Вестник Нижегородской правовой академии. 2017. № 14 (14). С. 5-8.
- Саидов А. Х. Типология и классификация правовых систем современности // Правоведение.1985. № 2. С. 52-56.
- Сукиасян Э. Р. Классификация или типология // Научные и технические библиотеки. 1996. № 10. С. 3-10.
- Гачава М. Л., Мальцев С. А., Дрозд Е. Д. Классификация и типология личности преступника в криминологии // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018 (публикация авторов на с. 86-88).
- Безвербная М. Ю. К вопросу о классификации и типологии объектов недвижимости // Пролог: журнал о праве. 2016. № 4 (12). С. 13-19.