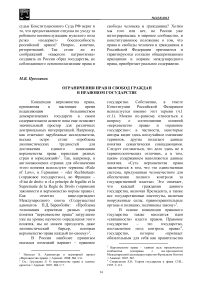Ограничения прав и свобод граждан в правовом государстве
Автор: Пресняков М.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Доклады пленарного заседания
Статья в выпуске: 3 (33), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142232446
IDR: 142232446
Текст статьи Ограничения прав и свобод граждан в правовом государстве
Концепция верховенства права, признанная в настоящее время подавляющим большинством демократических государств в своем содержательном аспекте пока еще оставляет значительный простор для различных доктринальных интерпретаций. Например, как отмечают зарубежные исследователи, весьма остро стоит «проблема лингвистических трудностей для достижения единого понимания верховенства права юристами разных стран и юрисдикций»1. Так, например, в англосаксонских странах для обозначения этого понятия используют термины «Rule of Law», в Германии – «der Rechtsstaat» («правовое государство»), во Франции – «Etat de droit» и «Le principe de legalite et la Suprematie de la Regle de Droit» («принцип законности и верховенство нормы права»). Как отметил вице-президент Международного союза (Содружества) адвокатов П.Д. Баренбойм: «Проблема толкования юристами разных стран понятия “верховенство права” затруднено уже на уровне научного определения этого понятия, мы не можем преодолеть даже лингвистический барьер, понимая верховенство права каждый по-своему»2.
В России наиболее принятым оказался немецкий вариант – правовое государство. Собственно, в тексте Конституции Российской Федерации используется именно этот термин (ч.1 ст.1). Можно по-разному относиться к вопросу о соотношении понятий «верховенство права» и «правовое государство»: в частности, некоторые авторы видят здесь неслучайное смешение терминов, другие полагают данные понятия семантически совпадающими. Следует согласиться, что дело здесь не в терминологических отличиях, а в том, каким содержанием наполняются данные понятия. «Суть верховенства права заключается в том, что это единственная система, придуманная человечеством для обеспечения полного контроля за государственной властью. Это означает, что каждый гражданин данного государства, включая Президента, а также все государственные институты, включая вооруженные силы, правоохранительные органы и полицию, подчинены закону»3.
В основе концепции правового государства также находится идея «связанности» власти правом. Правовое государство – это государство, поставленное «под контроль права»4, государство, которое «признает обязательным для себя как правительства
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика созданные им же как законодателем юридические нормы»5. В этой связи некоторые авторы интерпретируют господство права в правовом государстве через понятие «верховенство закона». О.Е. Кутафин пишет: «Верховенство права означает верховенство закона. Оно выражается в том, что главные, ключевые, основополагающие общественные отношения регулируются законами. Через верховенство закона в общественной жизни, во всех ее сферах, во всех политических институтах воплощаются высшие правовые начала, дух права. Тем самым обеспечиваются реальность и незыблемость прав и свобод граждан, их надежный правовой статус, юридическая защищенность»6.
Вместе с тем, ограничения конституционных прав представляют собой правовой институт, необходимый, в том числе, и в демократическом правовом государстве. Однако такие ограничения должны удовлетворять принципу соразмерности. Следует заметить, что принцип соразмерности как критерий допустимых ограничений прав человека и гражданина начал использоваться Конституционным Судом Российской Федерации с 1996 года. Последовательный анализ правовых позиций Конституционного Суда позволяет отметить весьма существенную «эволюцию» содержания данного принципа. Первоначально Суд отмечал, что соразмерность вводимых ограничений означает их соответствие конституционно значимым целям. Так, в постановлении от 2 июля 1997 г. №10-П Конституционный Суд отметил, что право каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства может быть ограничено в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства7. Однако такие ограничения прав и свобод человека и гражданина допустимы лишь при условии их соразмерности конституционно значимым целям.
Иными словами, первоначально смысл принципа соразмерности сводился к «целеобусловленности» вводимых ограничений. При этом проверке подлежали два вопроса: а) является ли цель введения ограничения конституционно допустимой и б) не являются ли указанные ограничения «избыточными» с точки зрения реализации данной цели.
Достаточно дискуссионным является вопрос о правомерной цели вводимых ограничений конституционных прав человека и гражданина. Согласно Всеобщей декларации прав человека (п.2 ст.29), при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе8. В Конституции РФ возможность ограничения основных прав обусловливается необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч.3 ст.55).
В этой связи В.В. Лапаева выступила с критикой «практики отечественного

конституционного правосудия, которая в целом ориентирована на первоначальную (архаичную) интерпретацию положений Всеобщей декларации и основанных на ней международно-правовых актов»9. По ее мнению, такое прочтение рассматриваемой нормы не согласуется с положением ст.2 Конституции РФ о том, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». В.В. Лапаева полагает, что «возможность применения ограничений прав человека в соответствии с общими интересами допускается лишь в той мере, в какой эти общие интересы признаны необходимыми для защиты прав человека».
С данной позицией, в целом, можно согласиться с одним, однако, уточнением. Обеспечение или защита прав других лиц, которое лежит в основе этой публично значимой цели, может иметь косвенный характер. Как справедливо отмечает Д.И. Дедов, достижение общего блага как общественно значимая цель «означает не только достижение блага для конкретного лица напрямую путем установления субъективного права, но и обеспечение косвенно блага для любого и каждого человека независимо от его индивидуальных (частных) предпочтений и интересов»10. С этих позиций любая из названных в ч.3 ст.55 Конституции целей может быть интерпретирована в рамках обеспечения общего блага как блага каждого.
Другое дело, что в рамках конкретной ситуации допустимо и необходимо ставить вопрос о достоверности такой интерпретации.
Дело в том, что Конституция РФ формулирует допустимые цели возможных ограничений в максимально общем виде. В ситуации же конкретного правоотношения они редуцируются через систему промежуточных, инструментальных целей. Например, цель охраны здоровья других лиц может выражаться в необходимости
__________________________ №3(33)2013 защиты окружающей среды или противодействии угрозе терроризма и т.п.
Вместе с тем, такие редукции вполне могут приводить к формальной легитимации неконституционных целей введения ограничений. Как нам представляется, подобное имело место в постановлении Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 г. №8-П при рассмотрении вопроса о конституционности ст.14.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле»11. Согласно данной норме, погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых в связи с их участием в террористической деятельности прекращено из-за их смерти, наступившей в результате пресечения данной террористической акции, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом тела указанных лиц для захоронения не выдаются и о месте их захоронения не сообщается.
Суд признал эту норму не противоречащей Конституции РФ. При этом он воспроизвел высказанную ранее правовую позицию, что вводимое законодателем ограничение прав и свобод должно отвечать требованиям справедливости, быть необходимым и соразмерным конституционно значимым целям.
Конституционный Суд посчитал, что такая мера сама по себе допустима, поскольку в сложившихся в Российской Федерации условиях борьбы с терроризмом преследуются конституционно защищаемые цели, подобная мера является необходимой для обеспечения общественного спокойствия и общественной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности, защиты прав и свобод
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика других лиц. При этом конкретную цель установления данного ограничения Суд увидел в «минимизации информационного и психологического воздействия, оказанного на население террористическим актом, в том числе ослаблении его агитационнопропагандистского эффекта». Места захоронений участников террористических актов могут стать местами культового поклонения и использоваться в качестве средств а пропаганды идеологии терроризма и вовлечения в террористическую деятельность. Кроме того, по мнению Суда, захоронение лица, принимавшего участие в террористическом акте, в непосредственной близости от могил жертв его действий, совершение обрядов захоронения и поминовения с отданием почестей оскорбляют чувства родственников жертв этого акта и создают предпосылки для нагнетания межнациональной и религиозной розни. Это может привести к разжиганию ненависти, спровоцировать акты вандализма, насильственные действия, массовые беспорядки и столкновения.
Заметим, что в данном деле было высказано три особых мнения, каждое из которых в той или иной мере касалось обоснованности вводимого ограничения. Самым «жестким» из них является особое мнение судьи Конституционного Суда А.Л. Кононова, который отметил, что «оспариваемые нормы, запрещающие выдачу родственникам тел погибших и устанавливающие анонимность их захоронения, являются… абсолютно аморальными, отражающими самые дикие, варварские и низменные представления прошлого». На наш взгляд, А.Л. Кононов справедливо отмечает подмену реальной цели защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц иллюзорными или гипотетическими целями. «Конституционный Суд… создает апокалиптическую картину катастрофических последствий, к которым якобы может привести выдача родственникам тел погибших и их последующее погребение – создание

угрозы общественному порядку и спокойствию, разжигание ненависти, межнациональной и религиозной розни, провоцирование актов вандализма, насильственных действий, массовых беспорядков и столкновений, в том числе на почве кровной мести… Процесс погребения здесь прямо отождествляется с самим террористическим актом, исполнение похоронного обряда – с пропагандой терроризма, а проявление родственной скорби – с террористической идеологией».
Представляется, что важным критерием справедливости вводимого ограничения является реальность, действительность преследуемой им цели. Предполагаемые или гипотетические обстоятельства не могут служить основанием ограничения основных прав.
Отмеченный аспект характеризует принцип справедливости с позиции «целесообразности», то есть как оправданность ограничения основных прав с позиции преследуемой конституционной цели. Это выражается, во-первых, в существовании общезначимой цели (в терминологии Европейского Суда – «настоятельной социальной небходимости», «неотложной необходимости государственного или коллективного характера») и, во-вторых, в соразмерности (нечрезмерности) избранных средств ее достижения (ограничений, вмешательства).
Как нам представляется, чрезвычайно важным здесь является вопрос о допустимых пределах такого ограничения, границах вторжения законодателя в существо конституционного права.
Судья Конституционного Суда Г.А. Гаджиев справедливо отмечает, что «поскольку основные права не содержат указаний о возможных пределах ограничений, а лишь отсылают к закону, возникает вопрос относительно интенсивности такого рода вторжений в сферу экономических прав и свобод. Ведь формально законодатель может ограничить то или иное основное право в
любом объеме и в результате – выхолостить его содержание»12.
В этой связи с 2002 года Конституционный Суд при оценке соразмерности ограничений основных прав апеллирует к понятию «содержание права», или «существо права». Так, в постановлении от 11 июня 2002 г. №10-П Судом (фактически впервые) была сформулирована следующая правовая позиция13. Федеральный законодатель вправе определять порядок и условия осуществления основных прав (постановление касалось возможности ограничения избирательных прав). При этом не допускаются отмена или умаление самих принадлежащих гражданам Российской Федерации конституционных прав, которые, как следует из ст.55 (ч.3) Конституции Российской Федерации, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, то есть должны преследовать конституционно значимые цели и быть соразмерными, с тем, чтобы данные права не утрачивали свое реальное содержание.
Таким образом, Конституционный Суд, допуская установление отдельных ограничений основных прав в конституционно значимых целях, одновременно считает неконституционным их умаление, такое вмешательство в само существо права, которое приводит к полной или частичной утрате его реального содержания. В постановлении от 15 января 2002 г. №1-П Суд отметил, что положения Конституции в их взаимосвязи предполагают, что целью обеспечения
__________________________ №3(33)2013 прав других может обусловливаться устанавливаемое федеральным законом соразмерное ограничение права. Вместе с тем ни законодатель, ни правоприменитель не вправе исходить из того, что этой целью может быть оправдано какое-либо существенное нарушение права, а также отказ в его защите, поскольку тем самым фактически допускалось бы умаление права как такового14.
Как отмечает Председатель
Конституционного Суда В.Д. Зорькин: «Конституция предусматривает не умаление и отрицание прав и свобод, а именно их ограничение, то есть законное определение конкретных границ, пределов их осуществления. Ограничения не могут посягать на само существо права. В противном случае это будет не ограничение, а умаление, уничтожение прав и свобод, что несовместимо с достоинством человека как правового существа»15.
О необходимости адекватного истолкования ч.2 и 3 Конституции Российской Федерации в системной взаимосвязи между собой сегодня много говорится в специальной литературе. Как известно, ст.2 Основного закона запрещает принимать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. В связи с этим В.В. Лапаева отмечает, что «в вопросе о соотношении таких конституционных понятий, как “ограничение прав” и “умаление прав”, царит настоящая неразбериха. Достаточно сказать, что общественные дискуссии по поводу любого сколько-нибудь заметного уменьшения объема установленных текущим законодательством прав обычно идут в таком диапазоне: на одном полюсе
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика – ссылки на то, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом для защиты конституционных ценностей, а на другом – утверждение о том, что не должны издаваться законы, умаляющие права и свободы»16. По ее мнению, понятие умаление не должно пониматься как некое «количественное» уменьшение права или его несоразмерное ограничение. Умаление следует рассматривать в качественном аспекте девальвации сущностного содержания права.
В.И. Крусс, разграничивая понятия «отмена», «умаление» и «ограничение» прав, рассматривает конституционный термин «умаление» как воздействие, которое деформирует сущность основных прав или свобод человека и гражданина. По его мнению, ограничение конституционных прав может допускать лишь его модификацию, не предполагающую принципиального изменения существа конституционного права17.
В постановлении от 1 февраля 2005 г. №1-П Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что федеральный законодатель, устанавливая критерии численности политических партий, призван действовать так, чтобы, с одной стороны, эти критерии не были чрезмерными и не посягали на само существо (основное содержание) права граждан на объединение, а с другой – чтобы они были способны выполнять свои уставные задачи и функции именно в качестве общенациональных (общероссийских) политических партий, то есть, в конечном счете должен руководствоваться критерием разумной достаточности, вытекающим из принципа соразмерности18.
Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что эти количественные критерии могут приобрести неконституционный характер только в том случае, если результатом их применения окажется невозможность реального осуществления конституционного права граждан на объединение в политические партии, имеющие в условиях действия конституционного принципа многопартийности равные правовые возможности для участия в политическом волеобразовании многонационального народа Российской Федерации.
Как нам представляется, именно данный аспект «ограничения ограничений» выражает специфику конституционного принципа справедливости в качестве критерия соразмерности возможных ограничений основных прав.
организации “Балтийская республиканская партия”» // СЗ РФ. 2005. №6. Ст.491.