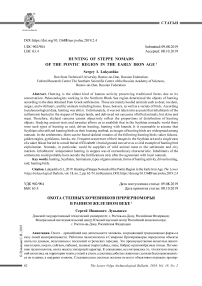Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке
Автор: Лукьяшко Сергей Иванович
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Охота - древнейший вид деятельности человека, сохраняющий традиционные формы в силу своей консервативности. Работами палеозоологов в Северном Причерноморье определены объекты охоты по данным, полученным с поселений и греческих городищ. Это преимущественно копытные животные (олени, косули, сайгаки, кабаны), пушные звери (зайцы, лисы, бобры) и разнообразные птицы. По мнению палеозоологов, охота носила элитарный характер. К сожалению, не учитывалось то, что жители поселений охотились на территории чужих угодий в степи, а доставка добытых животных должна была производиться не тушами, а шкурами и мясом. Следовательно, костные останки не могут объективно отражать пропорции распределения объектов охоты. Изучение античных текстов и предметов торевтики позволяет установить, что в скифском кочевом мире применялись такие виды охоты, как облава, загонная охота, псовая охота. Есть основания предполагать использование ловчих сетей. Широко распространенное в кочевом мире изображение ловчих птиц предполагает использование этого способа охоты и у скифов. Костные останки ловчих птиц присутствуют в материалах поселений. Это соколы-балобаны, беркуты, кречеты, ястребы-перепелятники и другие птицы. Яркой иллюстрацией использования ловчих птиц является популярность их изображений в скифском искусстве и единичный случай погребения сокола-балобана в мужском погребении Елизаветовского могильника. Именно кочевники могли быть поставщиками мяса диких животных на рынки поселений и городов. Самостоятельная охота обитателей поселений в степи носила экстраординарный характер. Вероятно, жители поселений могли охотиться за пределами крепостных укреплений лишь по согласованию с местным кочевым населением.
Охота, скифы, сарматы, виды промысловых животных, формы охотничьей деятельности, загонная охота, облава, ловчие птицы
Короткий адрес: https://sciup.org/149130867
IDR: 149130867 | УДК: 902/904 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2019.2.4
Текст научной статьи Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке
СТАТЬИ
DOI:
Цитирование. Лукьяшко С. И., 2019. Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 62–74. DOI:
Охота – древнейший вид жизнедеятельности человека, сохранивший многие важные способы этого вида производственной деятельности, приспособив их к техническому прогрессу. И все же это один из самых консервативных видов деятельности. Изучение охоты кочевников раннего железного века Евразии находилось в поле исследовательских интересов палеозоологов, которые в силу профессиональных задач обращали внимание прежде всего на видовой состав промысловой фауны. Выводы, сделанные биологами в содружестве с археологами, касались прежде всего ареалов распространения видов и характеристики палеоклимата [История скотоводства, 1960; Добровольская, 2009, с. 113; Бибикова, 1984].
Тем не менее были сделаны и важные наблюдения над этим специфическим видом хозяйственной деятельности. В.И. Цалкин обратил внимание на увеличение процентного соотношения костей диких животных на акрополе Каменского городища на Днепре, сопоставил эти данные с встречаемостью костей диких животных на поселениях скифского времени и сделал вывод о том, что охота была занятием элитарной части населения поселений. Этот вывод разделял и П.Д. Либеров [Либе-ров, 1960, с. 132]. Следует заметить, что данное наблюдение должно коррелировать с представлениями о поставках из степи на внутренние рынки городов и поселений добытых охотниками (кочевниками или охотниками поселений?) животных. К тому же общеизвестно, что промысловики на месте свежевали туши и за- бирали мясо и шкуры, что ставит под сомнение объективность данных количественных расчетов. Поделочное значение рогов копытных еще более искажало картину.
Способы лова были выделены В.И. Цал-киным на основе предметов торевтики и античных источников. Упоминается облавная охота, охота на оленей по глубокому снегу и использование ловчих сетей. При этом выводы напрямую не соотносились с кочевым миром степи.
По наблюдениям Ю.И. Семенова в архаических видах деятельности, к которым относится охота, консервируются традиционные нормы и правила ее ведения. Так, например, охотничья добыча распределяется внутри коллектива по архаичным правилам [Семенов, 1976, с. 22–27]. Еще более консервативными оказываются способы организации охоты. Так, появившиеся еще в палеолите способы охоты – облава, засада, загонная охота, скрадывание – существуют до сих пор. Причиной консервации способов охоты являются сами животные, жизненные циклы и способы существования которых практически неизменными остаются с незапамятных времен.
Наблюдения, основанные на изучении костных останков в культурных слоях античных городищ и поселений, вовсе не дают основания считать, что жители этих городищ сами охотились на степных животных. Скорее следует предполагать специализацию какой-то части населения на этом виде деятельности или даже поставки на местные рынки охотничьей продукции туземным кочевым населением. Вряд ли городские охотники могли чувствовать себя в безопасности на чужих охотничьих угодьях. Достаточно познакомиться с элегиями Овидия, чтобы понять, насколько не простым было пребывание в степи инородцев.
Наши интересы обращены прежде всего на кочевую степь. Здесь охота была не развлечением, она обеспечивала социальный организм продуктами питания и шкурами животных на долгое время. Неудачная охота обрекала коллектив на прозябание. Поэтому как сама охота, так и подготовка к ней были важными факторами жизнедеятельности древних обществ. Предположить, чтобы в свои угодья они допускали иноплеменников, – невозможно. Для кочевников Евразийской степи в силу природных условий охота была связана с добычей прежде всего копытных животных. Это подтверждается остеологическим анализом дикой фауны поселений. В результате в исследованиях биологов, а вслед за ними и историков принципиальным было определение по костным останкам объектов охотничьей деятельности. В серии блестящих палеозоологических исследований был определен видовой состав и сделаны наблюдения, касающиеся определения отличительных особенностей природы степи Восточной Европы в раннем железном веке.
Сама охота была частью естественного и потому понятного вида деятельности населения. Пожалуй, только П.Д. Либеров, вслед за В.И. Цалкиным, сумел частично преодолеть этот барьер и отметил, что по распространению костных останков на площади Каменского городища можно заключить, что охота была аристократической забавой. Этот вывод нельзя распространять на все скифское общество. Он касается лишь оседлых поселений, но не кочевых скифов.
Остеологические наблюдения показывают, что на первом месте среди охотничьих трофеев от Ольвии до Фанагории в Причерноморье были дикие копытные, среди которых на первом месте – благородный олень, сайгак, косуля [История скотоводства, 1960, с. 88]. На втором месте по останкам и, очевидно, по значению был дикий кабан. Пушнину добывали охотой на зайцев, лис, бобров, куньих. Допускаем, что мелкие животные и, возможно, пушные доставлялись в поселения. Их костные останки более-менее объективно отражают количественные показатели. Для кочевого мира мы не можем построить никакой системы количественного преобладания того или иного вида добытых животных. Дикие животные редко входили в круг продуктов, используемых при поминально-погребальных мероприятиях, из которых мы черпаем информацию.
Важной промысловой составляющей в древности были птицы: гуси, утки, дрофы, куриные – фазаны, куропатки.
В силу особенностей природы самым распространенным способом добычи животных у степных номадов от древности до нового времени была облавная охота. Этот вид охоты возник вместе с человеком и совершенствовался по мере изменения природы и человека. Приручение лошади добавило в этот вид деятельности много нового. Основной объект охоты – степные копытные животные – обитали стадами, мигрируя от пастбища к пастбищу. Поэтому важно было выбрать удобный момент нахождения стада, для того чтобы появилась возможность его окружить – обложить и добыть максимально возможное количество животных. Отлов значительного количества животных обеспечивался целой группой участников хозяйственного акта. Облавные охоты – это вид деятельности, в котором принимает участие большое количество охотников. Охотники скрытно окружают стадо, замыкают кольцо и начинают уничтожение животных. Обезумевшие от страха животные пытаются прорвать кольцо охотников – бросаются на цепь. Устоять в этом противостоянии было жизненно необходимо для всего коллектива, так как в образовавшуюся брешь уходило все стадо. Поэтому лица, допустившие прорыв кольца, сурово карались, и наоборот, устоявшие в этом противостоянии получали общественное признание.
Масштабные массовые действия требовали высокого уровня организации действий больших отрядов. Управление охотничьими отрядами должно было производиться на расстоянии с применением условных сигналов. От действия каждого зависел успех общего дела. В охотах оттачивалось взаимодействие отдельных групп и охотников-воинов.
Строжайшая дисциплина была обязательным требованием охоты. Нарушение ее приводило к печальным последствиям. Вспомним сюжет повести Д.У. Шульца «Ошибка Одинокого Бизона». Нарушение правил охоты обрекало все племя на голод и холод. Д.У. Шульц пишет: «...Праотцы наши сообща выработали ряд правил, касавшихся охоты, и правилам этим подчинялись все. Вот одно из них: когда все племя нуждалось в большом количестве бизоньих шкур для одежды или новых вигвамов, охотник не имел права выходить один на охоту, так как он мог спугнуть стадо бизонов, которые паслись в окрестностях лагеря, и лишить других охотников добычи. Был у нас такой обычай: старшины племени приказывали юношам следить за бизонами, и, если какое-нибудь стадо приближалось к лагерю, разведчики немедленно сообщали об этом старшинам. Затем лагерный глашатай объезжал все вигвамы и от имени вождя приказывал всем охотникам седлать лошадей и явиться на место сбора – к вигваму вождя. Сам вождь возглавлял отряд охотников. На быстрых конях они долго преследовали убегающее стадо, а по окончании охоты равнина бывала усеяна тушами убитых бизонов. Суровая кара грозила тому, кто нарушал правила охоты. По приказу вождя отряд Ловцов, входивший в союз братств Друзья, наказывал виновного. Ловцы срывали с него одежду, били его хлыстом, а иногда разрушали его вигвам и убивали лучших лошадей. И все считали наказание заслуженным, так как существование нашего племени зависело от удачной охоты на бизонов. Эти животные всегда доставляли нам пищу, кров и одежду» [Шульц, 1959, с. 1]. Д.У. Шульц прожил в племени пикуни 15 лет, был женат на индианке, и его произведения наполнены тонкими и точными этнографическими зарисовками.
Не менее распространенным видом охоты была загонная охота, которая отличается от облавной распределением функций участников. Как правило, выделяются стрелки – это охотники, укрытые в засаде; загонщики – участники охоты, выгоняющие зверя под выстрел. В современной охоте выделяются еще и молчуны – это охотники, надзирающие за тем, чтобы животное не отклонилось от намечен- ного охотниками маршрута движения. По сути, это разновидность облавной охоты. Участники выслеживают зверя, определяют маршрут его движения; располагаются треугольником, на вершине которого находятся стрелки. Поднимают зверя загонщики от основания треугольника. Молчуны – обеспечивают правильное движение зверя, предупреждают попытки выйти на другие тропы и таким образом выводят зверя на стрелков. Этот вид охоты применяется на пересеченной местности, в оврагах, зарослях камыша. Объектами такой охоты являются крупные животные: кабаны, олени; хищники: волки и лисы. Но применяется этот вид охоты и на зайцев.
Итак, облавная и загонная охота – это основные виды охоты в степи. Но эта коллективная охота вовсе не отрицала индивидуальных форм охоты. К таковым относятся засада и скрадывание. Один из видов индивидуальной охоты на зайца мы наблюдаем на пластинке из кургана Куль-Оба (рис. 1). Охотник преследует зайца на коне и с коня целит дротиком в притаившегося зверька. Попасть на скаку дротиком в небольшого зверька – это, безусловно, высокое искусство. Да и способность зайца менять траекторию движения, уходить с тропы и пытаться залечь хорошо известна охотникам. Поэтому изображенная сцена внушает доверие. Средневековые кочевники в таких случаях пускали в ход плеть-нагайку с утяжелителем на конце. Умелым ударом такой плети охотник пробивал череп волка, не говоря уж о зайце. Наличие одиночных свинцовых вор-варок в скифских погребениях, на мой взгляд, относится к такому виду специфического охотничьего снаряжения.
В иерархии охотничьих подвигов охота на зайцев была достоянием бедноты. Мяса заяц давал немного, и охота на него велась ради шкурок, ценившихся наравне с лисьим мехом. Тем не менее в скифских погребальных комплексах встречаются кости этого животного в составе напутственной мясной пищи и в кухонных остатках на поселениях [Байгушева, 2006, с. 346].
Индивидуальный характер носила и охота на птицу. У нас нет данных об использовании охотниками ловчих сетей, но имеются серии наконечников стрел, которые не могли иметь боевого, военного значения. Это костяные наконечники с жальцем.
На использование ловчих сетей намекает римский поэт Публий Вергилий Марон. В какой степени этот способ охоты может соотноситься со скифской охотой? П.Д. Либе-ров допускал отнесение этого фрагмента к скифской охоте. На самом деле в тексте Вергилия, на который ссылался автор, это общее замечание к тому, чем заставил человека заниматься Юпитер. И это общечеловеческое достижение к скифам никак не привязано. Хотя исключать этот широко распространенный в древнем мире способ охоты из скифского охотничьего арсенала нет оснований.
«Зверя сетями ловить и птиц обманывать клеем Способ нашли, оцеплять лесные урочища псами» [Публий Вергилий Марон, 1971, с. 140–141].
Ниже в строке 372 Вергилий вновь упоминает тенета, на этот раз напрямую адресуя сюжет к Скифии и Меотиде, утверждает, что скифы ловчие сети не ставили. Следует иметь в виду, что поэт жил в I в. до н.э. и под скифами в этом эпизоде именовалось туземное население, ким в это время в Меотиде являлись меоты и сарматы.
В одном из погребений средней бронзы могильника Царский на Дону в заполнении колодца был обнаружен скелет сурка-байбака, убитого скифской стрелой с бронзовым наконечником. Этот вид грызунов роет вертикальные норы и в случае опасности стремглав бросается в ближайшую. Байбака и сегодня бьют, когда он отойдет от норы. Иначе подранок уйдет. Эпизод напрямую свидетельствует об индивидуальной охоте скрадывани-ем, использовавшейся скифами.
Птицу добывали разными способами. Еще в XX в. дударя-дрофу били, преследуя ее по снежному насту. Тяжелая птица не могла взлететь с места, ей необходим был разгон. Зимой она проваливалась в насте и не могла взлететь. Ее преследовали и выбившуюся из сил птицу забивали палками. Нет сомнения в том, что и для древности эта простая техника добычи была доступна. Изображение бегущей с распростертыми крыльями дрофы имеется на золотой чаше из Келер-месского кургана 1. Чаша относится к асси- рийскому производству, и, вероятно, здесь изображена песчаная дрофа – излюбленный объект охоты на Востоке. Кстати, на Востоке дрофу добывают с помощью ловчих птиц. Костные останки дрофы известны в кухонных остатках Елизаветовского городища на Дону [Байгушева, 2006, с. 342].
Любопытен еще один способ охоты, на сей раз непосредственно связанный со Скифией. Он был описан Публием Вергилием и, на мой взгляд, неверно истолкован П.Д. Ли-беровым.
«Иначе – там, где скифы живут, близ вод Меотийских...
Снег меж тем все идет и воздух собой заполняет; И погибают стада; стоят неподвижно, морозом Скованы, туши быков, под невиданным грузом олени.
Стынут, сбившись толпой, – рогов лишь видны верхушки.
Не посылая собак, не трудясь расставлять и тенета, Их, устрашенных уже, пробивающих снежную гору Тщетно грудью своей, не пугая их красной метелкой, Копьями бьют, подойдя к ним вплотную, и громко ревущих Так добивают; потом уносят с радостным гиком» [Публий Вергилий Марон, 1971, с. 368–376].
Описанная ситуация подвергнута сомнению, так как такой глубокий снег представить себе в степи невозможно, – пишет П.Д. Ли-беров. Но ситуация здесь отличная. На открытых пространствах, в самом деле, такой толстый слой снега – крайняя редкость. Но вот в балках и оврагах снег накапливается толстым слоем и попадание стада оленей в такие ловушки может быть связано только с загонным способом охоты, когда стадо животных загонялось в естественную ловушку и добивалось. В спокойном состоянии животные даже в метель идут на ветер и ищут защиту от ветра на опушке леса. Самостоятельно они не попадут в такую западню. Их можно только загнать в сугроб.
Загонная охота находит отражение и в предметах торевтики. Одна из самых известных сцен – это охота на льва, представленная на чаше из кургана Солоха (рис. 2). В охоте участвуют конные копейщики и луч- ники. Лев загнан собаками, и подоспевшие охотники убивают зверя: лучник стреляет в хищника со спины, а центральный охотник, сдерживая лошадь, замахнулся дротиком с правой руки в зверя. На противоположной стороне чаши изображены двое юношей, сражающихся с рогатой львицей. Под ручками чаши изображены львята [Русяева, 2005]. Исследователи, расходясь в интерпретации сюжета, не сомневаются в высоком мастерстве и реализме изображений, выполненных искусным торевтом. Присутствие крупных кошачьих в составе фауны Причерноморья сегодня уже не вызывает сомнений. В Фанагории был обнаружен целый череп котенка леопарда, являющийся прямым свидетельством присутствия и этих хищников в Причерноморье [Добровольская, 2009]. Имеются веские основания считать, что в степи обитали и гепарды. Последние гепарды были уничтожены в Прикаспии только в XIX веке.
Сюжет на Солохской чаше выводит нас на особый способ охоты – псовую охоту. Использование собак для загона зверя – распространенная практика. Собаки в рамках скифской культуры известны античным авторам, известны они и археологически. К сожалению, о скифских собаках мы имеем весьма скудное представление, больше известны нам собаки греческих городов Причерноморья [Одрiн, 2015]. На этрусском саркофаге изображена псовая погоня, которую неизвестно почему связывают с киммерийцами. Собаки были обнаружены в скифских погребальных комплексах. Античным кинегетикам были известны савромат-ские и гирканские псы. В сцене охоты на льва с использованием собак изображены гладкошерстные собаки с короткой мордой; похоже, что образцами для художников служили средиземноморские молосские псы. В охотничьей практике могли использоваться местные лайкоподобные породы, хорошо работавшие на подъем и травлю зверя. Известны были и породы гончих псов, к которым относились гирканские псы. Савромат-ский пес крупный, догоподобный, скорее всего использовался для сторожевой службы. Вергилий перечисляет способы использования собак в хозяйстве:
«При таких сторожах опасаться Нечего будет хлевам ни волков, ни воров полуночных, С тыла на них нападать не будет ибер несмиренный.
Псами придется не раз преследовать робких онагров,
Зайцев псами травить, на коз охотиться диких, Громким лаем вспугнув кабанов, из логов лесистых
Их выгонять;
на горах с собаками будешь нередко Криком своим заводить матерого в сети оленя» [Публий Вергилий Марон, 1971, с. 410].
Загонная охота, сопровождавшаяся преследованием травлей зверя, изображалась на предметах торевтики, например на поясной пряжке из Сибирской коллекции Петра I (рис. 3).
Широко распространенная в степном кочевом мире средневековья охота с использованием ловчих птиц в применении к скифам специально не изучалась. Существует убеждение, что этот вид охоты известен со времен Сарданапала (668–626 гг. до н.э.). По свидетельствам письменных источников использование в охоте ловчих птиц в Македонии относится к III в. до н.э.
При изучении этого вопроса исследователь сталкивается с необычайно скудной источниковой базой. Применяемое для содержания птицы снаряжение: колпак, подставка, затвор, веревка, варежки, стойка для руки – археологически не выявляются.
С другой стороны, популярность изображения хищной птицы однозначно свидетельствует об особом отношении к хищнику и даже о культе птицы. Существует серия высокохудожественных изображений со сценами нападения хищных птиц на диких животных. На наш взгляд, это не только зарисовки из жизни мира природы, а сцены использования ловчих птиц. Так, на бляхе из Сибирской коллекции Петра I (рис. 4) изображена сцена нападения крупной хищной птицы на копытное животное, которое характеризуется наличием длинной шерсти в подбрюшье, пышным хвостом, длинной шерстью на загривке. Эти признаки соответствуют образу дикого яка. Длинная шерсть, ниспадающая по скулам, также встречается у отдельных особей. Большие рога, свойственные этому виду, вероятно, скрыты под изображением птицы. Поэтому животное определяется достаточно уверенно как як [Руденко, 1962, с. 15]. Сложнее с птицей, которая когтями одной ноги вцепилась в основание черепа и терзает загривок быка. Правая часть изображения трудно поддается прочтению. По мнению С.И. Руденко, здесь изображена голова тигра, вцепившегося в хвост грифа. В такой трактовке – это сцена борьбы за добычу [Руденко, 1962, с. 15] между грифом и тигром.
Более выразительным является изображение на поясной пряжке из Сибирской коллекции Петра I, где представлено нападение хищной птицы на кошачьего хищника – тигра [Руденко, 1962, с. 15], в зубах которого находится копытное животное (рис. 5). Тушку поверженного копытного, находящегося в пасти хищника, терзает еще один персонаж сцены, в котором угадывается волк-собака. Хищная птица нападает по фронту на зверя, ее когти нацелены на морду зверя, клюв направлен в голову. Эта сцена может иллюстрировать не дошедший до нас мифологический сюжет или изображать сцену борьбы за добычу.
Дополняет серию известных нам сцен с хищными птицами изображение на обивке деревянного сосуда из 4-го Семибратнего кургана (рис. 6), где изображено нападение хищной птицы на животное, которое определяется то как ягненок, то как заяц. Я склонен видеть в животном зайца по форме хвоста, пальцам ног, длинным ушам.
В Сибирской коллекции Петра I имеется еще одна бляшка с изображением большой хищной птицы, держащей в когтях архара (рис. 7).
Во всех этих сценах фиксируются нападения хищных птиц на различных животных. Отсутствуют достаточные основания для того, чтобы видеть в них ловчих птиц. Возможно, здесь мы имеем некие натуралистические наблюдения древних мастеров и можем заключить, что прямых свидетельств использования в охоте ловчих птиц нет.
Не исключено, что с этим видом охоты скифы познакомились на Ближнем Востоке. Экология и природный комплекс допускают предположение о появлении первых опытов применения ловчих птиц в охоте уже в скифское время.
Данное предположение подкрепляется наличием в культурных слоях городищ костных останков хищных птиц. Так, в Ольвии известны останки сокола-балобана [Добровольская, 2009]. Кости беркута, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, балобана, коршуна, орлана-белохвоста обнаружены в Елизаветовском поселении на Дону. В интерпретациях этой ситуации преобладает мнение о том, что хищные птицы были объектом охоты, перья которых использовались для оперения стрел. Но в нашем распоряжении имеется ситуация с погребением сокола-балобана вместе с мужчиной в Елизаветовском-на-Дону могильнике. И это уже иной характер отношений между хищной птицей и, надо полагать, ее владельцем. Ловчие птицы использовались в охоте на птицу, кости промысловых птиц хорошо известны на поселениях [Бай-гушева, 2006, с. 342–345].
Таким образом, охота была важным элементом хозяйствования скифского мира. При этом туземные народы являлись вероятными поставщиками мяса диких животных на поселения и античные городища. Скифам были известны способы загонной и облавной охоты, а также индивидуальные способы охоты: скрадывание, травля и псовая охота. Есть веские основания предполагать существование охоты с ловчими птицами в степном мире Евразии уже с V в. до н.э.
Список литературы Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке
- Байгушева В. С., 2006. Орнитофауна и териофауна Приазовья по материалам археологических раскопок // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Вып. 22. Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника. С. 341-356.
- Бибикова В. И., 1984. Копытные Северного Причерноморья в раннем голоцене (по материалам археологических раскопок) // Проблемы изучения современных биоценозов. М.: ИЭМЭЖ. С. 171-203.
- Добровольская Е. В., 2009. Археозоологические исследования Фанагории (2005-2008 гг.) // Боспор Киммерийский и варварский мир Причерноморья в эпоху античности и средневековья. Актуальные проблемы: X Боспорские чтения. Керчь. С. 113-118.
- История скотоводства в Северном Причерноморье, 1960. М.: Наука. 166 с. (Материалы и исследования по археологии СССР; № 53).
- Либеров П. Д., 1960. К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья // История скотоводства в Северном Причерноморье. М.: Наука. 1960. С. 110-164. (Материалы и исследования по археологии СССР; № 53).
- Одрiн О., 2015. Мисливство в античних державах Надчорномор'я (на прикладi Ольвii) // Соцiум. Альманах соцiальноi iсторii. Вип. 11-12. Київ: Iнститут iсторiї України НАН України. С. 289-302.
- Публий Вергилий Марон, 1971. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Худож. лит. 462 с.
- Руденко С. И.,1962. Сибирская коллекция Петра I. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 51 с. (САИ; вып. Д3-9).
- Русяева М. В., 2005. Сцена охоты на серебряной чаше из кургана Солоха // Боспорские исследования. Вып. IX. Керчь: Центр археологических исследований БФ "Деметра". С. 112-126.
- Семенов Ю. И., 1976. Первобытная коммуна и соседская крестьянская община // Становление классов и государства. М.: Наука. С. 7-86.
- Шульц Д. У., 1959. Ошибка Одинокого Бизона. М.: Географиздат. 25 с.