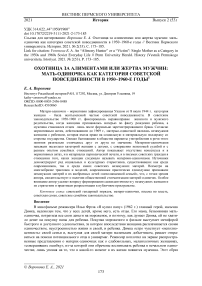Охотница за алиментами или жертва мужчин: мать-одиночка как категория советской повседневности в 1950-1960-е годы
Автор: Воронова Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История в гендерном измерении
Статья в выпуске: 2 (53), 2021 года.
Бесплатный доступ
Матери-одиночки - нормативно зафиксированная Указом от 8 июля 1944 г. категория женщин - была неотъемлемой частью советской повседневности. В советском законодательстве 1950-1960 гг. фиксировалось неравноправие женского и мужского родительства, когда женщина признавалась матерью по факту рождения ребенка, а мужчина становился отцом лишь после формально зарегистрированного брака. Согласно нормативным актам, действовавшим до 1969 г., матерью-одиночкой являлась незамужняя женщина с ребенком, которая имела право на социальную и материальную поддержку со стороны государства. Однако бытовавшие в обществе варианты употребления в речи этого понятия разительно отличались друг от друга по значению. Матерями-одиночками называли несколько категорий женщин с детьми, с совершенно непохожей судьбой и с разным опытом семейных отношений. Автор показывает отсутствие консенсуса и в нормативных актах, и в материалах периодической печати, и в письмах советских граждан в отношении того, каких женщин следовало называть матерями-одиночками. Источники демонстрируют ряд социальных и культурных стереотипов, существовавших как среди современников, так и среди самих советских незамужних матерей. Несмотря на многообразие трактовок и моделей, современники практически единодушно признавали незамужних матерей и их внебрачных детей «неполноценной семьей», что, с точки зрения автора, свидетельствует о наличии общественной стигматизации матерей-одиночек. Особое внимание автор уделяет вопросу формирования самоидентичности у незамужних женщин и их стратегиям и практикам репрезентации в публичном пространстве.
Советский гендерный порядок, матери-одиночки, письма во власть, советская семья, советское семейное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/147246364
IDR: 147246364 | УДК: 314.622..44”1950/1960” | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-2-173-185
Текст научной статьи Охотница за алиментами или жертва мужчин: мать-одиночка как категория советской повседневности в 1950-1960-е годы
В кинофильме режиссера Ильи Фрэза «Я купил папу» (1962 г.) главный герой, мальчик Димка, недоволен тем, что у всех детей, кроме него, есть отцы. Его мама, безымянная мать-одиночка, потратила все свои деньги на мороженое, и поэтому, как думает Димка, ей не хватило денег на покупку папы для ребенка. Покупка мороженого в фильме выступает метафорой быстрого и доступного удовольствия, за которое впоследствии женщина расплачивается своим одиночеством, неустроенностью жизни и своей, и ребенка. Димка остро чувствует «неполноценность» своей семьи и, выступая для своей матери маленьким добытчиком, решает отправиться на поиски потенциального отца в универмаг. Режиссер воплотил на экране распространенные представления о матерях-одиночках как о слабовольных, меланхоличных женщинах, «совершивших ошибку», из-за которой они обречены воспитывать ребенка в печальном одиночестве, лишь уповая на то, что в какой-то момент в их жизни появится мужчина. Этот образ
был узнаваем в советском обществе, несмотря на то что в фильме героиня прямо не называется матерью-одиночкой.
История возникновения и функционирования понятия «мать-одиночка» как юридической категории лишь недавно привлекла внимание историков. В советском законодательстве этот термин, означающий незамужнюю мать, получающую пособие от государства, появился и стал использоваться после Указа Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г. Как показывают исследования Мие Накаши [ Nakachi , 2006, p. 40–68], этот нормативный конструкт стал воплощением демографической политики советского государства, которое стремилось восстановить население в максимально сжатые сроки после войны. Впервые в советском законодательстве четко прописывались критерии, по которым женщина определялась как мать-одиночка, а также привилегии, предоставляющиеся ей. Однако вместе с объявлением женщин, без поддержки отцов воспитывающих детей, особой категорией, поддерживаемой государством, их лишали права обращаться в суд для установления отцовства, а метрики их детей были неполными (в графе «отец» стоял прочерк) . М. Накаши обращает внимание на то, что в условиях уголовного наказания за проведение абортов многие незамужние женщины были обречены на то, чтобы стать матерями-одиночками [Там же, p. 60].
В советской реальности фразу «мать-одиночка» можно было встретить в совершенно разных контекстах. Само слово «одиночка» обозначает «делать что-то одному, обходиться без посторонней помощи/поддержки», однако в русском языке оно имеет и негативные коннотации в связи с однокоренным словом «одиночество». Советская пресса подчеркивала, что «одинокой матерью» быть намного лучше, чем «одинокой женщиной» [ Randall , 2011, p. 72]. При этом речь шла о довольно небольшой категории матерей, решивших родить ребенка, воспитывать его самостоятельно и в конечном счете не пожалевших о своем выборе. Публицисты игнорировали матерей-одиночек, выпадавших из этой парадигмы, к примеру, женщин, состоявших в неформальном браке, или тех матерей, которые считались одиночками в обществе, но юридически не являлись ими.
Тогда как историки работают с понятием «мать-одиночка» как нормативной категорией, социологи и антропологи показывают, как оно функционировало в повседневной жизни. Когда социолог Дженифер Утрата [ Utrata , 2015] задалась целью проинтервьюировать позднесоветских и российских матерей-одиночек, то обнаружила, что респонденты понимают данное выражение совершенно по-разному и далеко не все разделяют позицию самой исследовательницы. Чтобы отразить многообразие смыслов, вкладываемых в понятие «мать-одиночка», Дж. Утрата провела интервью и с разведенными женщинами, и женщинами, которые находились в сожительстве с мужчинами, и просто с незамужними матерями. Этот подход позволил больше узнать о матерях-одиночках не как о нормативной, а как о социокультурной и экономической категории. Исследовательница отмечает флюидность и неустойчивость данного термина. Нормативная категория «мать-одиночка», системообразующая для 1940–1960 гг., не была так принципиальна для позднесоветских незамужних матерей. В работе Олсон и Адоньевой [ Олсон , Адоньева , 2016], построенной на интервью с носительницами деревенской советской культуры, также подчеркивается, что мать-одиночка – это прежде всего некий ментальный конструкт. И Утрата, и Олсон и Адоньева изучали его ретроспективно, опираясь на более позднее представления и не задаваясь целью выделить особое место матерей-одиночек в советском обществе.
Цель данной статьи – показать, как послевоенное юридическое понятие «мать-одиночка» стало зонтичным термином, которое включало в себя самые разнообразные формы социального бытования незамужних матерей. Анализ представлений об этих формах бытования будет осуществляться на источниках нескольких типов: прежде всего, это нормативные акты (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”» и др.), статьи периодической печати 1950–1960 гг. («Литературная газета», 1950–1960 гг.), а также письма советских граждан «во власть» и в редакцию «Литературной газеты». Часть писем публиковалась, но большая часть оседала в архиве «Литературной газеты» или же перенаправлялись в юридическую комиссию Верховного Совета СССР. Особый интерес вызывают те, которые были написаны матерями-одиночками, об- ращавшихся в Президиум Верховного Совета СССР (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45), в Совет Национальностей Верховного Совета СССР (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а), а также в редакцию «Литературной газеты» (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 5).
Хронологические рамки, начиная с выхода Указа от 8 июля 1944 г. до нового Семейного кодекса 1969 г., являются условными нормативными границами от момента появления юридического понятия «мать-одиночка» и до того времени, когда женщинам вернули право на установление отцовства в суде. В связи с этим на протяжении 1950–1960 гг. советские люди употребляли в речи понятие «мать-одиночка» зачастую безотчетно и конструировали его как ментальную модель, наполняя своим опытом и целеполаганием. Для юристов, авторов статей в ведущих периодических изданиях, советских граждан и для самих незамужних матерей этот термин казался очевидным, однако он таковым не являлся.
В связи с этим в начале статьи будет рассмотрено возникновение и генезис термина «мать-одиночка» в нормативных документах, какие советские законотворческие инициативы предшествовали Указу от 8 июля 1944 г. и как на нормативном уровне закреплялись семейные гендерные роли. Во второй части статьи покажем, что в советском обществе отсутствовало единодушие в отношении значения понятия «мать-одиночка». В законодательстве, периодике, письмах граждан наблюдались противоречия, и в целом в обществе отсутствовали надежные маркеры, по которым можно было определить, является ли данная женщина матерью-одиночкой или нет (почему одних так называли, а других нет? насколько формальный статус матери-одиночки соотносился с ее социальным статусом?). В таком случае возникают вопросы: чем матери-одиночки отличались от других советских женщин-матерей, в чем заключалась их специфика в глазах современников и какие риторические стратегии выбирали незамужние матери?
Репрезентации и конструированию модели советской незамужней матери в письмах «неравнодушных» граждан, а также саморепрезентация женщин, которых причисляли к категории «матери-одиночки», будет посвящена третья часть статьи.
Категория «мать-одиночка» в нормативных документах
В советском законодательстве до 1944 г. понятие «алименты» не связывалось с отцами, а матери-одиночки не фиксировались как отдельная правовая категория. Так, в 1924 г. в статье 165а Уголовного кодекса наказание родителей за оставление детей без поддержки не было гендерно дифференцированным: «Неплатеж алиментов (средств на содержание детей) и вообще оставление родителями несовершеннолетних детей без надлежащей поддержки карается принудительными работами или лишением свободы до шести месяцев или штрафом до пятисот рублей» (О дополнениях..., 1924). Согласно законодательству 1920-х гг., родители в равной степени несли ответственность за ребенка, алименты понимались как «деньги на содержание детей», которые в зависимости от ситуации выплачивались или матерью, или отцом. Однако, в точки зрения правоприменения, всем было очевидно, что дети будут оставаться с матерью, а мужчина будет осуществлять экономическую поддержку [ Hoffmann, 2003, p. 112].
Следующим шагом советского законодательства стало право незамужних женщин устанавливать отцовство в суде и привлекать к ответственности мужчину, являющегося отцом ребенка. В Семейном кодексе 1926 г. был прописан следующий порядок: «Если суд признает, что отцом ребенка является лицо, указанное в заявлении…, он выносит об этом постановление и налагает на отца обязанность участвовать в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка, а равно и матери ребенка в течение ее беременности и шестимесячного срока после родов» (О введении…, 1926). Женщина, не состоящая в браке, но являющаяся матерью (или готовящаяся ею стать), не называлась матерью-одиночкой, возможно, потому, что она была вправе заявить об отце ребенка и потребовать участия «в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка» (Там же). Деторождение являлось сферой ответственности женщины, которая могла обратиться в суд за установлением отцовства, но могла и не обращаться. У женщин в данном случае имелась презумпция правоты и возможность решать вопрос об отцовстве для ребенка: «Если заявление делается матерью, то она обязана указать имя и фамилию отца или же заявить о том, что не может или не хочет дать требуемых сведений» (Там же). Государство в данном случае выступало посредником и третейским судьей в разрешении спорной ситуации между женщиной и мужчиной: оно могло привлечь к ответственности отца ребенка, однако никаких выплат от государства женщина в данном случае не получала. Что касается мужчин, то они имели право оспорить свое отцовство, но, в отличие от женщин, у них была «презумпция виновности»: они должны были доказывать, что не являются причастными к рождению ребенка. В случае, если отцовство признавалось самим мужчиной или устанавливалось в суде, мужчина был обязан обеспечивать мать и ребенка.
Для эпохи 1920-х гг. были характерны эксперименты в области брачно-семейных норм, в том числе и в законодательстве. Идеологи и юристы верили в то, что идеальной формой брака является союз свободной женщины и свободного мужчины, не обремененных бытовыми обязанностями. Семья как домохозяйство воспринималась в качестве «буржуазного пережитка», а воспитание детей, согласно представлениям 1920-х гг., должно было стать делом общественным, а не частным [ Goldman , 1993, p. 3]. В 1930-е гг. произошел официальный пересмотр идей 1920-х гг., и семья стала инструментом государственного контроля над сексуальностью людей и средством для решения ряда экономических и социальных проблем [ Hoffmann , 2003, p. 105]. Пронаталистская политика советского государства 1930-х гг. была нацелена на укрепление репродуктивной функции семьи, поэтому на советскую женщину возлагалась двойная нагрузка: помимо трудовой обязанности, рождение и воспитание детей стало ее гражданским долгом.
В преамбуле к печально известному Постановлению ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов…» указано: «Установление минимума сумм, подлежащих уплате отцом ребенка на его содержание при раздельном жительстве супругов, с одной стороны, и запрещение абортов – с другой, вместе с усилением наказания за злостный неплатеж присужденных судом средств на содержание детей и внесением некоторых изменений в законодательство о разводах, в целях борьбы с легкомысленным отношением к семье и семейным обязанностям» (О запрещении абортов…, 1926). Можно заметить, что теперь алименты признавались атрибутом отцовства: в тексте постановления использовано указание именно на отцов, а не на нейтральное «родитель». Женщины лишались права на легальный аборт, процедура разводов усложнилась, но все еще оставалась возможность установления отцовства в судебном порядке. Иными словами, женщина потеряла возможность легально прервать беременность, однако все еще имела право привлечь к ответственности отца ребенка и не нести все тяготы материнства в одиночку. В этом же документе далее прояснялась позиция властей относительно гендерного разделения – с кем из родителей оставался ребенок, а кто платил алименты: «Если мать-колхозница, получающая алименты, работает с ответчиком в одном колхозе, обязать правление колхоза непосредственно при исчислении трудодней записывать соответствующую часть выработанных трудодней отца (в зависимости от наличия детей) на счет матери» (Там же). Прежде лишь подразумевавшееся распределение материнских и отцовских обязанностей теперь было прописано нормативно.
Упоминание словосочетания «мать-одиночка» или производных от него (связанных со словом «одиночество») в советском нормативном пространстве впервые встречается в 1941 г. Во второй статье Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» отмечается, что «налогом облагаются одинокие и семейные, не имеющие детей, граждане: мужчины в возрасте свыше 20 до 50 лет и женщины в возрасте свыше 20 до 45 лет» (О налоге..., 1941). Для получения с граждан налоговых выплат было необходимо выявить потенциальных налогоплательщиков, и ими стали две большие группы населения: семейные бездетные и несемейные бездетные граждане. Однако в названии указа используются и маскулинно окрашенное слово «холостяки», и слово «одинокие», под которыми, соответственно, должны подразумеваться женщины. Далее в тексте указа слово «холостяки» не употребляется, остается лишь «одинокие» как собирательное для граждан, не состоящих в браке. И здесь нужно отметить два момента: во-первых, лексема «одинокие» становится синонимом к понятию «не состоящие в браке»; во-вторых, слово «одинокие» семантически связано только с женщинами. Скорее всего, такое уточнение требовалось для того, чтобы не путать бездетных семейных граждан и имеющих детей граждан, состоящих в незарегистрированном браке. Однако государство с этого момента определило, кто из граждан «одинокие», а кто – «холостые», и «одиночество» из абстрактного понятия стало юридической категорией, у которой имелись конкретные признаки: это незамужние и бездетные женщины.
Новая трактовка понятия «одинокий» и правовое положение незамужних матерей были предложены в Указе от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственное помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”» (Об увеличении…, 1944). Направленный на восстановление послевоенных демографических потерь, этот указ, с одной стороны, гарантировал выплаты и социальную поддержку незамужним матерям, а с другой – лишал женщин право устанавливать отцовство в суде, вписывать имя отца в метрику ребенка и претендовать на алименты [ Nakachi , 2006, p. 41–42]. В самом названии есть слово «одинокая», которое относится именно к женщинам. Происходит закрепление слова «одинокий/одиночка» за понятием «женщина, не состоящая в формальном браке», что логически является продолжением законодательных тенденций 1930-х гг. («Установить государственное пособие одиноким матерям (не состоящим в браке) на содержание и воспитание детей…»).
Другим значимым изменением стало то, что менялась роль государства: теперь власть объявляла себя патроном этой социальной категории женщин, и в какой-то степени вставала на символическую позицию отца [ Chernova , 2012, p. 47]. Фактические же отцы, согласно Указу 1944 г., освобождались от ответственности за детей, если они не были зарегистрированы в браке с матерью ребенка [ Денисова , 2007, c. 19–51]. Помимо этого, в данном указе вводились налог на малодетность (семьи с одним и двумя детьми также, как и бездетные граждане, облагались налогом), а также уголовное преследование за «оскорбление и унижение женщины-матери, злостный неплатеж алиментов на содержание детей». Особый интерес советского государства к женщинам как к демографической категории подтверждает и то, что наказание применялось за оскорбление не всех женщин, а именно матерей [ Nakachi , 2006, p. 54].
Родительские роли разделялись на нормативном уровне: «женщина-мать», которая «пользуется всеобщим уважением и почетом», и «злостный неплательщик алиментов», которым может быть только мужчина. Отцы, воспитывавшие детей самостоятельно, или матери-алиментщицы (или злостные неплательщицы) исключались из нормативного дискурса. Отчасти это было отзывом на реалии военного и послевоенного времени (с сильным гендерным дисбалансом в советском обществе), однако терминологически и нормативно законодательство задавало тенденции в брачно-семейной сфере на последующие десятилетия, до принятия Семейного кодекса в 1969 г.
Со временем жесткие нормы немного смягчались [ Денисова , 2007, c. 19–51], однако до 1970-х гг. ответственность за судьбу детей, а также за их метрики лежала целиком на женщинах. Поскольку привлечь мужчину к материальной ответственности или воспитанию ребенка можно было лишь в зарегистрированном браке, женщины могли лишь настаивать на заключении формального брака или же вступать в неформальный брак, рискуя в скором времени превратиться в мать-одиночку. В интересах же мужчин, наоборот, было не регистрировать брак, поскольку без юридического оформления брака мужчина не мог быть признан отцом в суде, следовательно, ему не могли быть назначены алименты. Другой аспект проблемы заключался в том, что зачастую мужчины уже были женаты (а получить развод в 1940–1960-е гг. даже при желании было сложно и дорого), следовательно, женщины, вступавшие с ними в связь, ни на что не могли претендовать с юридической точки зрения.
Таким образом, государство законодательно отделило формальное отцовство от биологического, а среди матерей выделило значительную часть «одиночек», что привело к закреплению негибких родительских и гендерных ролей в семье и обществе. Более того, идеологически все матери были разделены на две группы: те, кому с воспитанием детей помогает родной отец, и те, кому помогает государство. Женщина не имела право выбора при беременности (из-за запрета на аборты), но и рождение ребенка автоматически определяло ее социальное положение как «нормальной» матери или матери-одиночки. Фактическое же отцовство, в отличие от фактического материнства, в законе никак не фиксировалось, и мужчина мог выбирать – оформлять ли им юридически отношения с женщиной и нести ответственность за детей или же отказаться от любых обязательств.
Примеры употребления термина «мать-одиночка»
Нормативная сфера была связана с периодической печатью: в ней публиковались указы и прочие законодательные акты, в статьях юристы могли разъяснять правоприменительные практики. В периодике оттепельной эпохи велось обсуждение различных законодательных инициатив и даже, насколько позволяла цензура, критиковались некоторые законы. Безусловно, критика Указа от 8 июля 1944 г. стала возможной только лишь после смерти Сталина. Одной из самых обсуждаемых тем в контексте этого указа стало юридическое и социальное положение женщин, воспитывающих детей, рожденных вне зарегистрированного брака. Для современников было очевидно, что данный указ ущемлял женщин и ставил в неравное положение детей. Статьи рассматривали эти проблемы с позиций гуманизма: их авторы выступали за равенство метрик, толерантное отношение к матерям-одиночкам, а также призывали мужчин к ответственному и осмысленному отцовству.
В 1956 г. 9 октября «Литературная газета» выпустила коллективное обращение С. Я. Маршака, Г. С. Сперанского, Д. Д. Шостаковича, И. Г Эренбурга под названием «Это отвергнуто жизнью». Авторы подчеркивали, что Указ от 8 июля 1944 г. унижает и маргинализирует большое количество женщин и их детей: «Появилось и вошло в наш обиход неправомерное, как нам думается, официальное наименование “мать-одиночка”… в результате возникли тысячи трагедий, ломающих жизнь женщин, которых именуют “матерями-одиночками”, и детей их, на которых обыватели смотрят как на “незаконнорожденных”. Огромный фактический материал со всей очевидностью говорит о тяжелом, двусмысленном положении тех женщин и детей, на которых распространяется действие Указа» ( Маршак и др., 1956, с. 2). Авторы обращали внимание на то, что мать-одиночка – это официальное, искусственно созданное Указом 1944 г. наименование.
Возникает вопрос о том, какие же категории матерей, с точки зрения этой риторики, попадали под такое несправедливое и негуманное определение, были ли какие-либо надежные критерии для определения матерей-одиночек.
Статьи 1950–1960 гг., посвященные проблемам безотцовщины и матерей-одиночек, были в конечном счете нацелены на ликвидацию Указа 1944 г., соответственно, частью их риторики была актуализация темы бедственного положения этих женщин и их детей. Однако в публицистических текстах использование термина «мать-одиночка» варьировалось от статьи к статье, даже в рамках одного издания. Матерью-одиночкой могли обозначить и вдову, и женщину, живущую в фактическом браке, и разведенную женщину. Так, в статье, посвященной воспитанию трудных подростков, есть словосочетание «матери-одиночки», хотя речь идет о детях, у которых в метрике есть отец, а женщина – разведенная вдова ( Редько , 1953, с. 2). В статье про детские метрики один из читателей возмущается, что его фактическую жену считают матерью-одиночкой из-за того, что бывшая супруга этого читателя не дает ему развода и он не может зарегистрировать новый брак в ЗАГСе, хотя они проживают совместно и имеют общих детей (О детских метриках…, 1958, с. 2). Отдельно стоит выделить категорию женщин, которые жили в незарегистрированном браке, однако формально претендовали на пособие. Журнал «Социалистическая законность» писал о такой схеме: некоторые пары, ожидающие ребенка, специально не регистрировали брак, чтобы получать пособие. Эти женщины по закону были матерями-одиночками, однако фактически в советском обществе они не считались таковыми.
В 1950-е гг. в обществе все еще было в ходу представление о том, что матери-одиночки могут претендовать на алименты от мужчины, поскольку в коллективной памяти были живы правоприменительные практики, использовавшиеся до Указа от 8 июля 1944 г. Иными словами, не все граждане знали о том, что брачное законодательство сильно изменилось после войны, и потому из-за угрозы потенциальных алиментов, которые могли сказаться на семейном бюджете, замужние женщины и матери женатых мужчин, как правило, довольно открыто высказывали нетерпимую позицию к незамужним матерям, считая их или охотницами за приданым, или разрушительницами советской семьи: «Они прекрасно знают, что отец будущего ребенка никогда не собирался порывать с семьей, это явление чисто случайное, что ребенок родился по вине этой женщины, которая ставила само-цель поживиться по эгоистическим расчетам, поиздеваться над чужим горем, принести травму чужим детям (здесь и далее сохранена авторская орфография и пунктуация. – Е. В.)» (РГАЛИ. Ф.634. Оп. 5. Д. 488. Л. 12–14). Как можно заметить, понятие «мать-одиночка» в данном случае вписано в стереотипные представления о женщинах, не останавливающихся ни перед чем ради перспективы «заполучить мужчину».
Также матерями-одиночками называли незамужних женщин, заводивших романы с женатыми мужчинами и имеющих детей от этих отношений: «В судьбе ребенка без отца часто виновницей является сама женщина-мать, а именно, часто встречаются факты когда женщина, причем, в солидном возрасте… попирая стыд, советь и женскую гордость, по расчету, а не по любви ловят семейных мужчин, которые имеют семью, детей, жену и прожил не мало лет, становятся жертвой таких женщин» (Там же). Фактически советские женщины боялись лишиться мужа, поскольку это было чревато снижением их социального статуса и превращением их в тех самых матерей-одиночек [ Utrata , 2015, p. 20].
Очевидным маркером матерей-одиночек было получение ими денежных пособий от государства. Многие алиментщики, которые просили о снижении процентной ставки алиментов, ставили в пример государственные выплаты незамужним матерям: «Имеются женщины, получающие алимент за ребенка до тысячи рублей. В то же время одинокие матери получают пособия от государства 50 рублей на ребенка и весьмадовольны этим» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 232. Л. 72). Однако выплаты матерям-одиночкам в размере 50 руб. (5 руб. после реформы 1961 г.) были незначительными (особенно на фоне громкой риторики Указа от 8 июля 1944 г. о том, что государство готово поддержать незамужних матерей), и для некоторых женщин формальный статус матери-одиночки не стоил такой материальной помощи (матери-одиночки рассказывали, что при оформлении пособия им пришлось «перетерпеть унижений и стыда» (ГАРФ. Ф.7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 168–170)). Большинство граждан понимало, что пособия матерям-одиночкам мизерные и не могут обеспечить ни женщину, ни ребенка, поэтому не считало «справедливой» и «правильной» помощь от патерналистского государства: «В каких анналах коммунистической морали сказано, что женщина одна должна воспитывать ребенка? Что это? Творческое развитие марксизма? И что это за выплата “помощи” 5 рублей в месяц, суммы, которой иным недостаточно на содержание собаки?» (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 5. Д. 488. Л. 43–52). Незамужние матери считали, что материальную ответственность должен нести отец ребенка, во-первых, потому, что это казалось им справедливым, а во-вторых, потому, что 25% от заработной платы мужчины – это в любом случае оказывалось больше, чем 50 (5) руб.
Зачастую женщины добровольно отказывались оформлять пособие на детей, рожденных вне зарегистрированного брака: «Посколько я сама мать одиночка но лично для себя ничего не хочу посколько я работаю, имею в личном пользовании дом, огород вполне обеспечиваю себя и ребенка и не нуждаюсь в гос пособии не оформлялась и не только я, но и много таких» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 232. Л. 97-98). Как можно заметить, не все женщины, претендующие на пособие, стремились его получить. С другой стороны, как было показано ранее, некоторые женщины специально не регистрировали свои отношения с мужчинами, чтобы получать эту небольшую сумму на ребенка. Эти противоборствующие и уравновешивающие друг друга тенденции важно отметить в рамках официальной статистики по советским матерям-одиночкам.
Женщина, самостоятельно воспитывающая ребенка, могла не оформляться как мать-одиночка, однако прочерк в метрике ребенка на том месте, где должен был быть вписан отец, рано или поздно обнаруживался, поэтому угроза социальной стигматизации сохранялась. В связи с этим зачастую женщины стремились избегать термина «мать-одиночка», используя перифраз или уточнение (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 117–118), а свои отношения с мужчинами они определяли как «неформальный брак». Риторика и логика саморепрезентации женщин в таком случае выстраивалась следующим образом: в соответствии с традиционными представлениями мать-одиночка – это незамужняя женщина с ребенком от случайной связи, однако их союз с мужчиной был длительным, следовательно, «мать-одиночка» – это некорректный термин по отношению к ним. Иными словами, по мнению женщин, не все незамужние матери – это матери-одиночки, но все матери-одиночки – это незамужние матери, и следует четко разграничивать эти понятия. Разная смысловая и эмоциональная нагрузка на слово «одиночка» и различные коннотации наводили современников на мысли о том, что, поскольку возникает путаница в нормативном и «народном» определении, сам термин необходимо ликвидировать. «Изъять из обихода термин мать-одиночка, как не соответствующий действительности и являющийся чем-то нелестным для женщины матери.
Мать благородное слово, а не одиночка» (Там же). Следовательно, «одиночка» как бы нивелирует, принижает «благородное слово “мать”», и, по мнению женщин, это является дисгармоничным сочетанием чего-то «высокого» с чем-то «порочным».
Таким образом, большая категория женщин с разной судьбой и жизненными обстоятельствами оказалась маркирована довольно уничижительным, с точки зрения современников, термином. Нормативное определение фиксировало категорию матерей-одиночек как женщин, получающих поддержку от государства, однако «народное», или «традиционное», понимание существенно отличалось: это была довольно маргинальная и отчужденная от социальной жизни группа женщин, у которых не было никакой поддержки в жизни.
Отношение современников к матерям-одиночкам
Позиции современников в отношении проблемы матерей-одиночек в 1950-1960-е гг. можно условно охарактеризовать как дихотомию справедливости - несправедливости. Современников волновал вопрос о том, справедлива ли участь матерей-одиночек или же они заслуживают сочувствия, т.е. следует ли пойти навстречу требованиям об изменении законодательства. Общество разделилось на «обвинителей», которые считали, что матери-одиночки не заслуживают поддержки, и «адвокатов», которые разделяли гуманистический посыл публикаций в «Литературной газете», «Правде» и «Работнице» и поддерживали законодательную инициативу по единообразию детских метрик и установлению отцовства в суде.
Позитивная модель
На протяжении 1950-х гг. газеты и журналы стремились нормализовать понятие «мать-одиночка», отрицали его стигматизирующий статус, а в 1960-е гг. в периодической печати все настойчивее слышались требования изменить брачно-семейное законодательство. Официальный дискурс высказывался в защиту незамужних матерей, однако парадоксально: чем большее значение имело мнение о том, что мать-одиночка нуждается в особом внимании и поддержке, тем больше это говорило о ее невысоком социальном статусе. Это противоречие закрепляло стереотип о том, что мать-одиночка - явление аномальное для советского общества, и, несмотря на большое количество таких матерей, их «жизнь сложилась неудач-но».Такая модель базировалась на идее о том, что мать-одиночка страдает из-за отсутствия мужчины, однако советское общество готово протянуть ей руку помощи и принять в ряды советских граждан. Вместе с толерантным отношением окружения возникала надежда на то, что социализированная мать-одиночка преодолеет все трудности и останется частью рабочего коллектива или же, при самом оптимистичном прогнозе, устроит свое личное счастье. В специальных рубриках (например, «Нам пишут») публиковались подчеркнуто бодрые письма матерей, которые, несмотря на все трудности, не бедствовали, поскольку чувствовали за спиной поддержку коллектива и государства: «Ну какая я мать-одиночка, - когда ко мне после рождения ребенка так чутко отнеслись все окружающие. В заводском садике к сыну относятся очень хорошо, да и дома ему материально неплохо» (От имени сына, 1954, с. 2). Борясь с общественным осуждением матерей-одиночек и призывая к толерантному отношению к ним, публицисты маркировали сам факт рождения ребенка вне зарегистрированного брака как «ошибку», последствия которой можно и нужно преодолеть, отрицая при этом возможность личного выбора и осознанности действий самих женщин.
Публицисты стремились избежать ассоциаций матерей-одиночек с одиночеством социальным - было важно подчеркнуть, что женщины окружены заботой и защитой и со стороны общества, и со стороны государства. Однако одиночество как душевное состояние женщины, самостоятельно воспитывающей ребенка, не вызвало сомнений у современников. Даже признавая материальное и социальное благополучие незамужних женщин с детьми, такие варианты семьи определялись как «печальные»: «Ребенок растет или в большой семье, в которой две опоры - мать и отец, или в печальных случаях, в маленькой, где опора - одна. <_> Но и помимо того, слово “одинокая” странно звучит в нашем обществе, где человек всегда в коллективе, среди товарищей» ( Серебровская , 1954, с. 2). Как можно заметить, даже в одной статьи (за авторством Елены Серебровской) имеются противоречивые посылы: семья, состоящая из одной матери и ребенка называется «неполноценной», однако в то же время выдвигается тезис, что «одинокая» мать не сталкивается с общественным порицанием и пренебрежением.
В целом, относительно позитивный и оптимистичный настрой периодической печати разделяли и некоторые матери-одиночки. Они писали письма в Верховный Совет, где сообщали, что им и их детям неплохо живется, однако эти письма сопровождались требованиями о пересмотре брачно-семейного законодательства и о возвращении судебного установления отцовства: «Но я не имею малейшего желания получать эти 50 руб... Я хотела бы чтобы закон обязывал мужчину-отца нести и моральную и материальную ответственность» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 69-70). Характерно, что женщины, которые предпочитали репрезентировать себя в оптимистичном духе, старались не использовать в отношении себя термин «мать -одиночка», ведь они, несмотря на «неудачи», не смирились с «печальной участью», и продолжают жить, воспитывать ребенка и преодолевать все трудности.
Дискурс жертвы
Часть современников, выступавших в защиту матерей-одиночек, объясняла это тем, что эти женщины являются жертвами, они и их дети испытывают страдания, следовательно, заслуживают не осуждения, но жалости. Такая риторика позволяла продемонстрировать на живых примерах, к чему приводит или неразумное законодательство, или легкомыслие и безответственность мужчин. Матери-одиночки могли быть жертвой как Указа 1944 г., так и жертвой мужчин, что вновь лишало фигуру незамужней матери какой-либо агентности.
Образ матери-одиночки как женщины, расплачивающейся за ошибку или неудачу в личной жизни, был распространен как в общественном дискурсе, так и среди самих незамужних матерей. В отличие от позитивной модели, в данном случае упор делался на то, что положение матери-одиночки не только во всех смыслах тяжелое и незавидное, но еще и безнадежное. Как писали в «Литературной газете»: «Но все это не может ослабить или уничтожить боль, которая остается в сердце матери за ребенка, оставленного отцом» (О детских метриках., 1958, с. 2). И хотя, по мнению автора, невозможно преодолеть личную трагедию женщины, оказавшейся в положении матери-одиночки, однако все еще остается шанс помочь ребенку-«безотцовщине».
В периодической печати о существовании общественной стигматизации в отношении незамужних матерей сообщалось довольно часто: «…оскорбляя одиноких матерей и их детей, мещанин убежден в своей правоте» ( Маршак и др., 1956, с. 4); «А вот нашлось много людей, которые обвиняют и мать и ребенка. То лицемерная жалость, то открытая насмешка, то наглое оскорбление в лицо» (Там же). Противоречие заключалось в том, что порой сами публицисты косвенно поддерживали и соглашались с тем, что понятие «мать-одиночка» в советском обществе звучит как оскорбление: «.никому в голову не приходило, что полковник пятнадцать лет живет не со своей женой, а с какой-то “матерью-одиночкой”» ( Каверин , 1960, с. 2). Однако, по мнению публицистов, это явление случайное, а не системное, и с ним бесполезно бороться: «Вот почему нам кажется также, что отдельные факты недостаточного уважения к незамужним матерям бывают порой обострены неудачным оформлением метрики их детей» (От имени сына, 1954, с. 2). Иными словами, проблема прямой и косвенной общественной стигматизации отрицалась или замалчивалась, и в качестве главной причины бедственного положения матерей-одиночек называлось действующее семейное законодательство. Фактически риторика того, что матери-одиночки являются аномалией для советского общества, была созвучна патриархальному дискурсу в отношении незамужних матерей и их «незаконнорожденных» детей. Подразумевалось, что женщины, родившие ребенка вне зарегистрированного брака, ответственны за дальнейшую общественную стигматизацию ребенка-«безотцовщины». В связи с этим публицисты настойчиво выступали за возможность установления фактического отцовства в суде: было необходимо исправить «ненормальную» и «неправильную» семью, состоящую исключительно из женщины и ребенка.
Отдельного внимание заслуживает тот факт, что матери-одиночки считались жертвами обстоятельств и неблагонадежности мужчин, которым в идеале приходят на помощь государство и общество. Современники, заступавшиеся за матерей-одиночек, обращали внимание и на недостатки в законодательстве, и на «недостойное» поведение мужчин. Среди них было много женщин, на своем опыте столкнувшихся с проблемой «безотцовщины», но также писали и женщины с благополучной и счастливой семейной жизнью, как, например, жительница Сочи, которая, по собственному ее признанию, была замужем, имела дочь «восьми лет законнорожденную»: «Кого защищает указом 8 июля 1948 г.? Ребенка? Мать? Нет. Он защищает отца.
А встречали вы отца-одиночку? Таких людей надо судить и через суд устанавливать отцовство и обязывать их платить алименты не менее 50 %» (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 5. Д. 488. Л. 59).
Мужчины, которые писали письма во властные инстанции, также высказывались в защиту незамужних матерей. Как правило, это были отцы тех девушек, которые являлись матерями-одиночками, и они не понаслышке знали о проблемах, с которыми сталкивалась незамужняя женщина с ребенком в обществе: «Само собой разумеется, что в данном случае люди да и мы, как родители, убеждаем Лену примириться со своим позорнейшим положением девушки-матери-одиночки и спокойно воспитывать своего сына-безбатченка» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 232. Л. 318–326).
Письма женщин, представлявшихся читателям как матери-одиночки, зачастую написаны в довольно пессимистичном тоне. Авторы этих писем словно смиряются с неизбежным, и теперь их волнует только лишь судьба детей. Стратегия репрезентирования себя как жертвы включала причисление себя к стигматизированной группе и соответствие всем стереотипам о матерях-одиночках: бедность, беспомощность, общественная изоляция, неудавшаяся жизнь и безысходность. Вот, что пишет в редакцию журнала «Советская женщина» двадцатишестилетняя читательница: «Я одинокая мать… я осталась с ребенком одна и попала в малоприятное наименование мать-одиночка. Мне 26 лет - я только начала жить, но моя жизнь уже оборвана. Я неимею высшего образования и поэтому не имею приличных средств к существованию» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 72). Такие пассивность и депрессивность подчеркиваются и отношением к материнству, которое было нежелательным и описывается как несчастливое стечение обстоятельств для этих женщин.
Мотив неудачной и испорченной жизни незамужней матери выражается в жалобах на нехватку средств и отсутствии перспектив замужества, причем первое является следствием второго: «Если у нас действительно имеется равенство женщин и мужчин, то почему женезаконнорожденный ребенок ложиться тяжелым бременем только на мать, а именно: ее презирают люди, для воспитания ребенка нужны большие средства, примерно половину своей зарплаты каждая настоящая мать тратит на воспитание своего ребенка, а что же остается ей? она, почти как правило, не выходит замуж, ибо кому нужна нищая. Вся ее жизнь испорчена, вся молодость!» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 100-105). Наличие ребенка было не только экономическим и социальным бременем, но и становилось серьезным препятствием на пути к карьере, образованию или замужеству.
Женщины писали о том, как им пришлось скорректировать свои планы на жизнь и довольствоваться тем, что имели до появления ребенка. Кроме того, возникает вопрос о контроле собственного тела и репродуктивной системы, поскольку, судя по письмам, для большинства женщин «незаконнорожденный» ребенок был незапланированный. Многие женщины – авторы писем стали матерями-одиночками до 1956 г., т.е. до снятия запрета на аборты, которые вследствие отсутствия доступной контрацепции в СССР, были единственной возможностью прерывания беременности [ Randall , 2011, p. 14–15]. В данном случае эти женщины своим жизненным примером иллюстрировали многочисленные утверждения в периодической печати о том, что мать-одиночка – это не самостоятельная женщина, совершившая осознанный выбор, а жертва несчастливого стечения обстоятельств и негативный пример жизни для других женщин.
Негативная модель
Негативные комментарии и высказывания в адрес незамужних женщин с детьми встречаются довольно часто в письмах, но никогда не встречались в периодической печати: официальный дискурс был на стороне одиноких матерей. Государственная поддержка, риторика статей в защиту матерей-одиночек, публикация писем незамужних матерей – все это ощущалось современникам как некий дискурсивный сдвиг, и многие были им недовольны. «Что такое мать-одиночка? Этот термин появился в недавние времена. Родят а потом льют слезы на страницах газет, пекутся, страдают за своих детей. В большинстве своем матери-одиночки это женщины или девушки, которые вмешиваются в семейную жизнь супругов, внося разлад в их жизни. Им в первую очередь квартира, их ребенок первый кандидат в дет-ясли, им государство помогает материально. Не помогать надо им а презирать» (РГАЛИ. Ф. 634. Оп. 5. Д. 488 Л. 19–31). Матери-одиночки описывались как нарушительницы общественного порядка, охотницы за мужчинами, от действий которых страдали и женатые мужчины, и замужние женщи- ны, и их дети. Поэтому действующее законодательство казалось справедливым для автора письма, отрывок из которого приведен выше, – московской пенсионерки.
Некоторые современники были недовольны не только идеологическими изменениями, но и их потенциальным влиянием на нормативную сферу, а именно возвращением практики установления отцовства в суде. Следовательно, их реакцией было приписывание матерям-одиночкам корыстного интереса, который им не удалось удовлетворить при помощи мужчин, и теперь они просят помощи у общества и государства: «В свое время был издан закон о том если брак не зарегистрирован или случайное знакомство впоследствии как результат появился ребенок то при это обстоятельствах алименты не платят - это совершенно верно и справедливо (курсив наш. – Е. В. ). В конце концов серьезно женский пол заставили смотреть на жизнь» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 232. Л. 102-103). Похожие позиции по отношению к незамужним матерям были и у мужчин, следовательно, гендерные стереотипы в отношении матерей-одиночек разделяли и женщины, и мужчины: «Предлагаю не давать развода из-за семейной ссоры. Не выплачивать денежных пособий одиночкам (тогда женщина будет умнее). Несчитать брак ным безрегистрации» (ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 61). Однако можно заметить некоторое противоречие: матери-одиночки, по мнению некоторых авторов писем, корыстные и меркантильные люди, которые тщательно планируют «совращение» мужчины, но в то же время это недалекие и легкомысленные женщины.
Заключение
Таким образом, мать-одиночка была четко обозначенной категорией в послевоенном законодательстве, однако в обществе сосуществовали совершенно разные примеры употребления этого понятия, которые касались разных категорий матерей. Женщина с ребенком, попавшая в поле зрения современников, могла быть обозначена как мать-одиночка, формально ею не являясь, но, с другой стороны, женщина, получавшая пособие от государства, с позиции общества не являлась матерью-одиночкой.
Отсутствие единодушия и четких критериев в отношении незамужних матерей позволяет говорить о том, матери-одиночки были фигурой неоднозначной для современников, не было коллективного консенсуса среди их «адвокатов» и «обвинителей».
Сами незамужние матери воспринимали свое положение по-разному: кто-то сознательно или неосознанно вписывал себя в дискурс жертвы и выступал с позиции принятия своей незавидной участи, а кто-то отказывался вписывать себя в действующую парадигму и не причислял себя к матерям-одиночкам. И те, и другие вместе с современниками признавали ряд стереотипов в отношении матерей-одиночек, ставя их значительно ниже остальных советских матерей. Однако из-за размытости и флюидности понятия «мать-одиночка» эта стигматизация охватывала большое количество женщин и их детей, признавая их семьи «неполноценными». Понятие «мать-одиночка» является лишь частью сети понятий и представлений о гендерных и семейных нормах 1950–1960-х гг.
Список литературы Охотница за алиментами или жертва мужчин: мать-одиночка как категория советской повседневности в 1950-1960-е годы
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 7523. Оп. 45а. Д. 229. Л. 61, 69-70, 72, 100-105, 117-118, 168-170; Д. 232. Л. 72, 97-98, 102-103, 318-326.
- Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 634. Оп. 5. Д. 488. Л. 12-14, 19-31, 43-52, 59.
- Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания "мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства" [Электронный ресурс]: Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=507#04863223381935209 (дата обращения: 30.01.2020).
- О введении в действие кодекса законов о браке, семье и опеке [Электронный ресурс]: Постановление ЦИКСССР от 19 ноября 1926 г. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44825#04508484194193392(дата обращения:30.01.2020).
- О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса РСФСР [Электронный ресурс]: Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2210.htm (дата обращения: 29.01.2020).