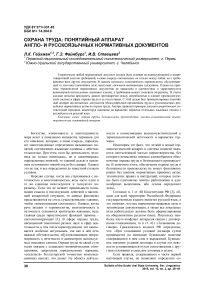Охрана труда: понятийный аппарат англо- и русскоязычных нормативных документов
Автор: Гейхман Любовь Кимовна, Файнбург Григорий Захарович, Ставцева Ирина Вячеславовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лексикография и прикладная лингвистика
Статья в выпуске: 3 т.12, 2015 года.
Бесплатный доступ
Теоретически любой нормативный документ должен быть основан на взаимоувязанной и непротиворечивой системе требований, в свою очередь соотносимых не только между собой, но с требованиями всех других документов. В данном контексте однозначность терминологии, обслуживающей то или иное понятийное поле, выступает логически вытекающим следствием. Однако на практике терминология нормативных документов не приведена в соответствие и характеризуется асимметрией используемых языковых единиц, а требования можно толковать по-разному. В статье сделана попытка преодолеть данное противоречие между потребностью в единой терминологической системе в сфере охраны труда и ее отсутствием. С этой целью был проанализирован понятийный аппарат англоязычных документов Международной организации труда и русскоязычных российских нормативных актов по охране труда. Авторы приводят примеры лексико-семантических соответствий терминов, акцентируя внимание на вариантах перевода отдельных языковых единиц с английского на русский язык.
Охрана труда, безопасность производства, лексико-семантический анализ, терминология, понятийный аппарат
Короткий адрес: https://sciup.org/147153966
IDR: 147153966 | УДК: 81’371+331.45
Текст научной статьи Охрана труда: понятийный аппарат англо- и русскоязычных нормативных документов
Богатство, изменчивость и многогранность мира ведет к появлению множества терминов для его описания, которые, в свою очередь, порождают многочисленные определения называемых понятий, соотносящих языковые единицы с действительностью. При этом, если бы деятельность человека не только начиналась, но и заканчивалась определением понятий, то главной целью и основным источником знаний стали бы словари. Однако это не так, и все определения до известной степени условны.
Нередки случаи, когда мы сталкиваемся с неточностью и многозначностью, ведь часто одни и те же единицы используются и толкуются по-разному. Если это не мешает правильности понимания смысла и последующих действий в настоящей конкретной ситуации, то данные феномены представляются не столь существенными: главное, чтобы «коммуникация состоялась». Однако, когда речь заходит о терминологии, многозначность и неточность становятся критически важными, ведь главная среди эвристических функций термина – систематизирующая [1]. В сфере охраны труда, насыщенной понятиями разных наук и сфер деятельности, в том числе юриспруденции, это оказывается особенно актуальным, так как в ней есть важные обстоятельства, обусловливающие непримиримость к нечеткости и асимметрии используемых языковых единиц. Охрана труда по своей сути тесно связана с социально-экономическими отношениями, закреплена юридическими нормами, «спеленута» бухгалтерской точностью компенсационных выплат, что делает эту область деятель- ности и коммуникации высокочувствительной к терминологической неточности и вариантам термина.
Неоспорим тот факт, что четкий и ясный терминологический аппарат и система понятий являются неотъемлемой частью нормотворчества, без которого немыслимо никакое единообразное обеспечение охраны труда и безопасности производства. В конечном итоге, обеспечение охраны труда и безопасности производства не может функционировать без законов, нормативных правовых актов, технических правил и инструкций, которые должны быть однозначно поняты работниками и единообразно выполнены, ибо «слова определяют дела».
Согласно п. 1 ст. 68 Конституции РФ [3], общим для всей территории Российской Федерации государственным языком является русский язык, а это означает, что все нормативно-правовые акты и техническая документация, а также все локальные акты работодателя должны быть сформулированы на общепонятном русском языке. Поскольку наиболее часто конфликт интересов связан с договорными отношениями, то в ст. 431 «Толкование договора» Гражданского кодекса РФ определено, что: «При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить со- держание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон» [2, с. 170].
Таким образом, при толковании условий договора сначала должно приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, то есть использовано лексикосемантическое толкование договора. Если буквальное значение условия договора при лексикосемантическом толковании оказывается неясным, то для установления его истинного содержания приходится использовать логическое толкование.
Смысл приведенного положения ст. 431 ГК РФ применим, вообще говоря, к толкованию положений любого законодательного акта или иного нормативного документа, но именно для этого требуется четкость и ясность используемых формулировок, однозначность и общепринятость терминов, известность «скрывающихся» за ними понятий. Все это требует внимательного и крайне серьезного отношения к текстам нормативных документов, учета сложившейся практики разговорной и письменной речи.
Вхождение России в мировое экономическое и информационное пространство потребовало сближения российской нормативной базы с требованиями различных международных документов, изначально написанных на английском языке. Возникла проблема достижения и фиксации однозначного соответствия русскоязычного текста переводных нормативных документов своим англоязычным оригиналам и их терминологической базе и понятийному аппарату.
В практике дипломатических отношений однозначное соответствие разноязычных текстов одного и того же документа связано с понятием аутентичности текстов какого-либо договора, написанного на разных языках в силу равноправия государств. Аутентичным признается тот экземпляр межгосударственного официального документа (чаще всего международного договора), которому согласованным и зафиксированным решением договаривающихся сторон придается юридический статус подлинного, достоверного, основного документа. Заметим, что в современной практике Международной организации труда аутентичными текстами ее нормативных документов все чаще являются только тексты, написанные одновременно на английском и французском языках.
В частном одностороннем порядке осуществить «собственный аутентичный» перевод принципиально невозможно, поскольку нет сторон, согласующих соответствие двух разноязычных текстов. Однако можно достичь достаточной для практики идентичности смысла текста перевода со смыслом исходного текста оригинала, передать практически всю содержащуюся в нем информацию. При этом вопрос о юридическом статусе и приемлемости содержания текста перевода для использующей его страны или организации остается фактически их собственной прерогативой и решается ими самостоятельно.
Для регулирования обширной практики принятия той или иной страной или группой стран международных стандартов в неизменной или в адаптированной форме на языке, отличающемся от языка оригинала «подлинного» международного стандарта, Руководство ИСО/МЭК 21 (ISO/IEC) «Принятие международных стандартов в качестве региональных и национальных стандартов» [5] вводит следующую систему классификации для принятых и адаптированных международных стандартов.
Прилагательное « идентичный » (IDT – от identical «идентичный, тождественный») применяется для национальных и региональных (межгосударственных) стандартов, техническое содержание и структура которых совпадает с техническим содержанием и структурой международного стандарта. При этом идентичному стандарту разрешается содержать минимальные, чисто редакционные, связанные со спецификой используемого языка, непринципиальные для содержания (смысла) изменения.
Прилагательное «модифицированный» (MOD – от modified «модифицированный, измененный») применяется для национальных и региональных (межгосударственных) стандартов, содержащих такие изменения (модификации) технического содержания и отклонения от международного стандарта, которые ясно выявлены и объяснены.
Прилагательное «неэквивалентный» (NEQ – от unequivalent «неэквивалентный») применяется для национальных и региональных (межгосударственных) стандартов, содержащих технические изменения и отклонения от технического содержания и структуры международного стандарта, которые ясно не выявлены, что не позволяет установить четкое соответствие между этими стандартами и исходным международным стандартом.
Подчеркнем, что достижение полной эквивалентности перевода с языка на язык, полной идентичности содержания разноязычных текстов одного и того же документа – задача очень сложная, а в отдельных моментах и неразрешимая. Недаром понятие «аутентичности» отражает юридическую сторону практического решения проблемы, а не степень фактической «идентичности» текстов.
Язык служит для передачи информации, для коммуникации, встроенной в ту или иную культуру жизни общества. Язык настолько связан с культурой жизни, образом действий и мыслей – менталитета, традиций общения определенного круга людей, что слушатель или читатель воспринимает все услышанное или прочитанное только через призму своего опыта, общепринятых традиций и менталитета того круга людей, к которому принадлежит. Даже говорящие на одном и том же языке жители одной и той же страны понимают одно и то же по-разному. Все это затрудняет общение и единообразное выполнение нормативных документов.
Существует иллюзия, что содержание каждого нормативного документа мы воспринимаем независимо от всех других. Вот почему с легкостью «мановения руки» законодателя, «для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные термины», или «в целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия». Однако эти термины и понятия живут и вне рамок целей конкретного федерального закона, и за пределами его текста, что порождает неразрешимые юридические проблемы и казусы. Все это происходит потому, что содержание любого документа воспринимается нами в единстве со всей нормативно-правовой и нормативно-технической базой и всего понятийно-терминологического аппарата нашего языка и речи.
Теоретически любой нормативный документ должен представлять собой взаимоувязанную и непротиворечивую систему требований, в свою очередь соотносимых не только между собой, но с требованиями всех других документов. Однако на практике, к сожалению, это не всегда получается. Вот почему, погружаясь в части этого документа, доходя до отдельных фраз и до использования отдельных терминов, можно обнаружить противоречия.
Информативное донесение содержания всей формирующей язык иерархии – образа жизни, культуры деятельности, менталитета, профессионального дискурса, правовой базы в целом, отдельного документа, предложения, слова – представителям других образа жизни, культуры деятельности, менталитета, профессионального дискурса и правовой базы, да еще и на другом языке – проблема, занимающая умы лингвистов не одно столетие.
Любой международный нормативный документ, смысл которого мы хотим правильно понять для его должного воплощения на практике, состоит из предложений, а они – из слов. К несчастью, зачастую смысл отдельного слова – один, этого же слова в предложении – другой, а самого предложения в контексте всего документа – третий. И на все это влияет форма изложения, различная для различных языков.
Вот почему давно уже известно, что для полного понимания смысла нужно прочесть весь документ, в котором для лучшей передачи этого смысла может оказаться необходимым изменить форму изложения, поменять отдельные слова и фразы. Главное, чтобы при этом все основные мысли были переданы, и прагматическая цель бы- ла достигнута. Ведь различия в переводе одних и тех же терминов с одного языка на другой язык неизбежны, а терминология, используемая за рубежом, в том числе Международной организацией труда, может не совпадать буквально с официально принятой и/или используемой на практике в Российской Федерации терминологией и конструкциями употребляемых языковых единиц.
Терминология охраны труда, связанная с различиями в укладе жизни, организации социальной защиты пострадавших на производстве, систем организации производственной жизни, всегда носит существенные языковые различия, а потому сложна для однозначного перевода. Сформированная еще в условиях командно-административной системы советского общества российская терминология охраны труда пока еще не вобрала в себя все нюансы описания социально-трудовых отношений работника и работодателя в рыночной экономике, что также затрудняет понимание смысла требований многих международных документов.
Чтобы проиллюстрировать данный тезис, приведем развернутые определения часто используемых в англоязычных текстах терминов и отражаемых ими понятий, преимущественно вызывающих неоднозначность толкования и перевода, а также понимания.
Инцидент (incident – неприятное происшествие, ситуация, событие, случай) : небезопасное происшествие, связанное с работой, или произошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая (accident), травму (injury).
В русском языке небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой травму, строго говоря, не имеет односложного термина, что вызывает сложности перевода даже с использованием кальки «инцидент». В некоторой мере в русском языке оно соответствует термину «опасное происшествие» или разговорному «ЧП» .
В российском официальном дискурсе охраны труда и безопасности производства лексическая единица «инцидент» является официальным термином промышленной безопасности, где под ним понимают отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.
Опасность (hazard – опасность) : фактор, способный причинить травму или ущерб здоровью человека. Вообще говоря, опасность – это свойст-во/способность отдельных факторов причинять любой вред любому объекту или процессу: ухудшать состояние, в котором находится тот или иной подвергшийся действию опасности объект, например, нарушать его структуру и/или функционирование вплоть до гибели/исчезновения.
В английском языке опасность – такое опасное свойство среды или процесса, воздействие которого на человека безусловно и неотвратимо приводит к поражению пострадавшего. Этим термин hazard в английском языке существенно отличается от другого термина английского языка, описывающего случайно воздействующую опасность – risk (риск).
Как правило, опасность используется во множественном числе – опасности . Английское понятие «опасности» включает в себя не только собственно опасные (опасности), но и вредные факторы (вредности) производственной среды и трудового процесса, примерно так же, как в русском языке понятие «безопасные условия труда» включает в себя «травмобезопасные» и «безвредные» условия. Поэтому словосочетание-калька «опасности и риски» означает всю совокупность закономерных и случайных опасных и вредных воздействий, но встречается только в переводных текстах.
В российском официальном русскоязычном дискурсе используют термины «опасный производственный фактор» и «вредный производственный фактор» производственной среды и трудового процесса. При этом «опасный производственный фактор» может стать причиной травмы, а «вредный производственный фактор» – заболевания. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных вредных производственных факторов производственной среды вредные производственные факторы могут стать опасными.
Оценка риска (risk assessment) : процесс оценивания рисков для безопасности и здоровья, связанных с воздействием опасностей. Оценка риска – общая процедура систематического использование всей доступной информации для определения источников, значимости и возможностей управления случайными опасностями.
При этом под оценкой риска [risk assessment] понимается общий процесс анализа риска и оценивания риска; под оценкой величины риска [risk estimation] – процесс присвоения значений вероятности и последствий риска, а под оцениванием риска [risk evaluation] – процесс сравнения оцененного риска с данными критериями риска с целью определения значимости риска. Подчеркнем, что нюансы различий трех различных терминов английского языка: assessment, estimation, evaluation – часто теряются при переводе на русский язык, а использование дополнительно термина «оценивание» к «оценке» практически ничего не меняет.
Англоязычный термин worker, то есть любое лицо, которое постоянно или временно выполняет работу по найму для нанимателя, ранее переводили как трудящийся, а ныне, стыдливо отходя от этого якобы «советского» термина, – работник. Однако, строго говоря, русскоязычное (российское, казахстанское, белорусское) юридическое понятие «работник» связано с трудовым догово- ром и работодателем [employer] и скорее соответствует термину employee. Его нужно отличать от часто встречающегося в русскоязычной нормативной литературе понятия «работающий», означающее любого человека, кто работает, причем совсем не обязательно по найму. По этой причине такая медицинская наука как «гигиена труда» использует преимущественно термин «работающий», поскольку рассматривает влияние условий труда на организм человека. Является ли этот человек работником, нанятым работодателем, или работает на себя для гигиены труда – несущественно.
В переводных документах, особенно советского периода, термин worker (означающий и работник, и рабочий, и работающий одновременно) переводили с помощью слов «труженик», «трудящийся». Поэтому в переводных документах того периода нет «работников», но зато везде есть «труженики».
Зачастую worker переводят как «рабочий», а employee – как «служащий», хотя полный правильный смысл employee – наемный работник, наемный сотрудник, «нанятый». Полностью правильное (истинное) значение использованного в переводе слова «работник» можно понять только из контекста (смысла) целого предложения, абзаца, параграфа, документа в целом.
Рабочая зона , или производственный участок (worksite – местонахождение работы) : физическая зона, в которой работникам необходимо находиться или передвигаться из-за их работы, находящейся под контролем работодателя. Имеется в виду физическое пространство, в котором работает работник.
В российском дискурсе почти такой же смысл имеет понятие «рабочее место». В английском дискурсе наоборот – понятие «рабочее место» [workplace] носит юридический характер и больше соответствует российскому юридическому термину «место работы».
С юридической точки зрения понятие «рабочее место» является более общим, чем физические «рабочая зона» или «производственный участок», поскольку включает «виртуальные» рабочие мес-та/зоны, напрямую (физически) не контролируемые работодателем, но контролируемые им «юридически». Это места вне «территории организации», например, помещение в банке, куда отправлен работник работодателем для выполнения определенного задания.
Риск (risk) : сочетание возможности наступления опасного события и тяжести травмы или ущерба для человеческого здоровья, вызванных этим событием. Риск – широко распространенный термин, используемый для наименования совершенно разных понятий и меняющий свое содержание в зависимости от контекста. Он имеет в русском и английском дискурсе близкие, частично совпадающие, но в целом различные значения.
В английском языке слово risk используется в основном для наименования случайных опасностей в отличие от безусловных, а потому часто встречается в русском тексте (идентичном переводе) в сочетании «опасности и риски», где первая часть отвечает за безусловные опасные и вредные производственные факторы, а вторая – за случайные.
Помимо этого в охране труда термин «риск» используется для наименования количественной меры безопасности, являющейся сочетанием вероятности возникновения опасного события и тяжести его последствий. Вместе с тем, термин «риск» часто используется для характеристики только самой вероятности возникновения опасного события.
Все этого затрудняет однозначное понимание данного термина.
Профессиональный риск (occupational risk) – риск получения производственной травмы и/или профессионального заболевания наемным работником, связан с занятостью (наймом), а не с профессией. Его надо отличать от professional risk. Все это очень часто путают переводчики, а за ними и невладеющие обоими языками специалистов.
Связанные с работой травмы, ухудшения здоровья и болезни (work-related injuries, ill health and diseases) – общепринятое в международной практике речевое «клише» для описания всех возможных результатов отрицательного воздействия на здоровье работника, целостность и функционирование его организма любых химических, биологических, физических факторов, организационнотехнических, социально-психологических и иных опасных и вредных производственных факторов во время трудовой деятельности, направленной на выполнение трудовых функций и обязанностей перед работодателем.
Заметим, что с узкопрагматической позиции охраны труда и обязательного социального страхования по социальной защите пострадавшего значение имеют только производственные травмы (occupational injuries), то есть травмы, полученные при несчастных случаях на производстве, а также острые и хронические профессиональные болезни (заболевания).
Травма [injury] – повреждение целостности организма или нормального его функционирования, как правило, происходящее внезапно. В охране труда всех стран основное деление травм производят на смертельные [fatal] травмы и несмертельные [non-fatal] травмы. Несмертельные травмы делятся в России на легкие и тяжелые.
Несчастный случай [accident] – случай, повлекший за собой травмирование или смерть пострадавшего; (этот случай является наиболее общим и описывает все ситуации, в том числе никак не связанные с охраной труда).
Поскольку термин «accident» означает в английском языке не только «несчастный случай», но и «аварию», то встречаются забавные, но глубоко ошибочные переводы с английского с повсеместным использованием термина «авария» вместо «несчастный случай».
Несчастный случай на производстве [occupational accident] – несчастный случай с наемным работником при непосредственном или косвенном выполнении им своих трудовых обязанностей перед работодателем, повлекший смерть пострадавшего или его отсутствие на рабочем месте более официально установленного национальным законодательством времени (в России – 1 день и более, в других странах, как правило, 3-4 дня и более), официально расследованный и подлежащий учету и компенсации.
Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», несчастный случай на производстве – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть [4].
В переводных текстах российское понятие «несчастный случай на производстве» также встречается в виде кальки с английского «профессиональный несчастный случай».
Связанный с работой несчастный случай [work-related accident] – международный термин – несчастный случай, вызванный условиями труда или работы, но не являющийся подлежащим учету «несчастным случаем на производстве». В русскоязычной разговорной речи этому понятию соответствует словосочетание « неучетный случай » (для несчастных случаев во время работы), а в официальном дискурсе этого термина нет до сих пор.
Производственная травма [occupational injury] – травма, полученная при несчастном случае на производстве [occupational accident] и подлежащая компенсации.
Болезнь [disease] – нарушение здоровья, острое или хроническое, проявляющееся (в большей или в меньшей степени) через видимые симптомы и невидимые, но лабораторно доступные изменения сред и/или функций организма.
В английском языке понятие disease [болезнь] существенно отличается от ill-health [заболевание] наличием четко установленного медицинского официального диагноза. В русском языке термины «болезнь» и «заболевание» равнозначны.
Профессиональное заболевание (болезнь) [occupational disease] – заболевание, вызванное исключительно неблагоприятными условиями труда, официально расследованное, диагностированное (входящее в специальный перечень профессиональных заболеваний, установленный национальным законодательством) и подлежащее учету и компенсации;
Связанное с работой [work-related] заболевание – международный термин – заболевание, вызванное или усугубленное условиями труда или работы, но не являющееся профессиональным и не подлежащее учету и компенсации. По своему смыслу этот термин совпадает с русскоязычным термином «производственно-обусловленное заболевание».
Производственно-обусловленное заболевание – русскоязычный термин – заболевание, вызванное или усугубленное условиями труда или работы, но не являющееся профессиональным (близко к международному термину «связанное с работой заболевание») и не подлежащее учету и компенсации. К сожалению, в некоторых нормативных документах этот традиционный русскоязычный термин пытаются заменить термином «профессионально-обусловленное заболевание».
Условия труда [working condition] – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Производственная среда [working environment] – общепринятый российский термин (насильственно и неоправданно вытесняемый неологизмом-калькой «рабочая среда»), означающий окружающую работающего человека среду, в которой он осуществляет простой процесс труда. (Заметим, что в русском языке словосочетание «рабочая среда» означает чаще всего жидкую или газообразную среду, используемую как рабочее тело тем или иным агрегатом; реже используется для характеристики культурного окружения в выражениях типа «он вышел из рабочей среды»).
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Подразумевается, что безопасные условия труда включают в себя и безвредные условия труда .
Охрана труда [Occupational Health and Safety – OHS (британский вариант) или Occupational Safety and Health – OSH (американский вариант)] – деятельность по сохранению жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Охрана труда преимущественно использует мероприятия «техники безопасности» и «производственной санитарии», направленные на защиту организма работника во время непосредственного осуществления последним простого процесса труда на рабочем месте.
Кроме того, для реализации своих целей охрана труда как вид деятельности использует «технику безопасности» и «общую гигиену» всякой связанной с работой деятельности работника вне простого процесса труда, «безопасность» ведения других параллельно осуществляемых работ и процессов, которые могут оказать на незанятых в них работников неблагоприятное воздействие, организационные мероприятия по соблюдению прав работника на защиту его здоровья на работе, систему социального страхования профессиональных рисков, выплаты компенсаций за опасные и вредные условия труда, причинение вреда здоровью на работе.
Охрана труда обеспечивает безопасность труда и использует данные гигиены труда. Охрана труда занята предотвращением производственных травм [occupational injuries], полученных при несчастном случае на производстве [occupational accidents] с помощью мероприятий Occupational Safety и охраной здоровья работников от профессиональных заболеваний [occupational diseases] с помощью мероприятий Occupational Health.
В заключение обратим внимание читателей на то, что мы думаем, принимаем решения, говорим, пишем документы на русском языке, и написанное или сказанное нами должно быть понято другими людьми правильно, а, следовательно, и сделано правильно, без чего невозможно обеспечение охраны труда, в особенности в рамках правового поля. Это напоминает нам о необходимости беречь и любить язык своей Родины – русский – и в полной мере использовать его для осуществления реальных дел во имя защиты человека труда, чьими усилиями создается и приумножается наше общее богатство.
Список литературы Охрана труда: понятийный аппарат англо- и русскоязычных нормативных документов
- Городищев, А.В. Структурно-семантические характеристики терминов средств связи в русском и английском языке/А.В. Городищев, К.Я. Авербух//Филоlogos. -2011. -Вып. 10. -С. 38-46.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. -М.: Статут, 2013. -688 с.
- Конституция Российской Федерации. Официальное издание. -М.: Юрид. лит., 2009. -64 с.
- Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федер. закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 2 июля 1998 г.: одобр. Советом Федерации РФ 9 июля 1998 г.//Российская газета. -1998. -12 августа. -№ 153-154.
- ISO/IEC Guide 21-1:2005. Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables. -URL: http://www.iso.org/iso/iso_iec_guide_21-1_2005.pdf (дата обращения: 09.02.2015)