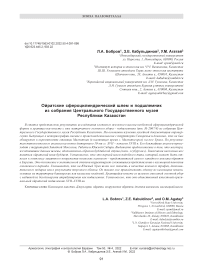Ойратские сфероцилиндрический шлем и подшлемник из собрания Центрального государственного музея Республики Казахстан
Автор: Бобров Л.А., Кабульдинов З.Е., Агатай У.М.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования клепаного железного шлема необычной сфероцилиндрической формы и хранящегося вместе с ним матерчатого головного убора подшлемника (инв. № 2067/8) из собрания Центрального Государственного музея Республики Казахстан. На основании изучения музейной документации опровергнуто бытующее в историографии мнение о происхождении шлема с территории Семиречья и доказано, что он был обнаружен в окрестностях станицы Магнитная (в настоящее время г. Магнитогорск) на юге Урала. По результатам типологического анализа наголовье датировано 10-ми гг. XVII началом XVIII в. Его ближайшие аналоги происходят с территорий Западной Монголии, Тибета и Южной Сибири. Выдвинуто предположение о том, что мастера, изготовившие данные шлемы, вдохновлялись образом буддийской ступы (калм. «субурган»). Заказчиком наголовья мог являться ойратский воин-буддист. Установлено, что это первый шлем подобного типа, который может быть отнесен к комплексу защитного вооружения волжских калмыков представителей самого западного анклава ойратов в Евразии. Это положение в значительной степени корректирует сложившиеся представления о калмыцкой паноплии означенного периода. Указывается, что на Южный Урал шлем мог попасть в качестве военного трофея, дипломатического подарка или в результате торгового обмена. Он также мог принадлежать одному из калмыцких воинов, осевших на территории башкирских или казахских владений. Хранящийся вместе со шлемом стеганый головной убор с набивкой из белой шерсти атрибутирован как подшлемник. Установлено, что это единственный известный оригинальный ойратский подшлемник XVII-XVIII вв.
Калмыцкое ханство, джунгария, ойраты, вооружение ойратов, доспехи калмыков, калмыцкий шлем
Короткий адрес: https://sciup.org/145146752
IDR: 145146752 | УДК: 623.445.2, | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.091-098
Текст научной статьи Ойратские сфероцилиндрический шлем и подшлемник из собрания Центрального государственного музея Республики Казахстан
Историче ский период, охватывающий XVII – первую половину XVIII в., в научной литературе нередко именуется эпохой малого монгольского (ойратско-го) нашествия [Кочевые империи Евразии…, 2019, с. 365]. На протяжении полутора столетий важную роль в жизни народов Великой степи играли племена западных монголов – ойратов, которые были известны в Китае как олёты, среди тюркских народов – как калмаки, а среди русских – как калмыки. В XVII в. ой-ратская экспансия распространилась на степи Восточной Европы, Казахстана и Монголии, а также территории Северо-Западного Кавказа, Южной Сибири, Восточного Туркестана и Тибета. В середине столетия сложились четыре основные военно-политические группировки ойратов – «калмыцкая» (с центром в Северном Прикаспии), «чакарская» (на юге Западной Сибири), «хошутская» (на Кукунорской равнине) и «джунгарская» (на территории Юго-Восточного Казахстана и Западной Монголии) [Бобров, Рюмшин, 2015; Кочевые империи Евразии…, 2019, с. 365–367].
Военно-культурное наследие различных групп ойратов изучено весьма не равномерно. Если вооружение джунгар, чакарцев и хошутов Кукунора исследуется давно и плодотворно, то изучение оружия и доспехов волжских калмыков только началось. В данной связи одной из актуальных задач является введение в научный оборот калмыцких предметов вооружения, хранящихся в российских и зарубежных музейных и частных собраниях. Без их всестороннего анализа не представляется возможным выявить основные направления эволюции, региональные особенности, а также общую динамику развития оружейного комплекса монголоязычных номадов Евразии на протяжении завершающего периода его существования как самостоятельного военноисторического феномена.
В фондах Центрального Государственного музея Республики Казахстан (ЦГМ РК) хранятся железный клепаный шлем необычной сфероцилиндрической формы, а также подбитый шерстью стеганый головной убор (инв. № КП 2067/8). Изображения (прорисовки, фотографии в одной проекции) и краткие описания боевого наголовья публиковались ранее [Ахметжан, 2007, с. 153, рис. 131, 7; с. 154, рис. 132, 2, г, с. 155; 2015, с. 78; Бобров, Худяков, 2008, с. 445, 460, рис. 190, 4], однако оно еще не становилось объектом отдельного научного исследования. Сведения о хранящемся вместе со шлемом головном уборе вводятся в научный оборот впервые.
Цель данной статьи – представить детальное описание конструкции наголовья, уточнить место обнаружения, дату и атрибуцию шлема, а также матерчатого головного убора из собрания ЦГМ РК (рис. 1, 2).
История изучения шлема
Сведения об интересующем нас шлеме были введены в научный оборот казахстанским исследователем К.С. Ахметжаном. Он отнес шлем к особой группе наголовий, «тулья которых выполнена из восьми пластин, которые внахлест перекрывали друг друга… Верх навершия и низ венца шлема стянуты узкими оковками» [Ахметжан, 2007, с. 155]. Это описание было проиллюстрировано небольшой фотографией и рисунком-схемой рассматриваемого образца защитного вооружения [Там же, с. 153, рис. 131, 7 ; с. 154, рис. 132, 2 , г ]. Шлем атрибутирован К.С. Ахметжа-ном как «казахское боевое наголовье» [Там же, с. 132].
В 2008 г. шлем из собрания ЦГМ РК привлек внимание российских исследователей Л.А. Боброва и Ю.С. Худякова. В их монографии, посвященной вооружению и тактике кочевников Центральной Азии и Южной Сибири позднего Средневековья и раннего Нового времени, он рассматривался наряду с другими сфероцилиндрическими наголовьями [Бобров, Худяков, 2008, с. 445, 460, рис. 190, 4 ]. Установлено, что подобные шлемы были востребованы ойратски-

Рис. 1. Ойратский шлем, ЦГМ РК (КП 2067/8), 10-е гг. XVII – начало XVIII в. Фото Л.Н Агибаевой, Д. Кездикбаева; рисунок Л.А. Боброва.
1 – вид спереди; 2 – вид слева; 3 – вид справа; 4 – вид сзади; 5 – навершие, вид сверху; 6 – место соединения обруча шлема.

Рис. 2. Подшлемник. Фото Л.Н. Агибаевой, Д. Кездикбаева.
1 – общий вид; 2 – вид снизу.
ми кочевниками рассматриваемого периода [Там же, с. 440–445, 459–461, 722, 725]. По мнению ученых, первоначально шлем из ЦГМ РК мог быть «снабжен простым или “коробчатым” козырьком и бармицей» [Там же, с. 445]. Наголовье было датировано XVI– XVIII вв. и отнесено к комплексу вооружения «западномонгольских» (ойратских) воинов [Там же, с. 445]. Описание шлема было проиллюстрировано его графическим изображением [Там же, с. 460, рис. 190, 4 ].
В 2015 г. К.С. Ахметжан вернулся к изучению на-головья КП 2067/8 из собрания ЦГМ РК. Исследователь обратил внимание на то, что некоторые мавзолеи Западного Казахстана имеют купол, форма которого напоминает рассматриваемый шлем [Ахметжан, 2015, с. 78, рис. 32, 4]. К.С. Ахметжан в целом соглашался с мнением Л.А. Боброва и Ю.С. Худякова о принадлежности шлемов подобной конструкции к комплексу вооружения ойратов, но отмечал, что шлемы, напоминающие по форме купол казахского мавзолея, могли изготавливаться и самими казахами [Там же, с. 75]. Ученый отнес рассматриваемое наголовье к числу «переделанных джунгарских шлемов, использовавшихся в прошлом казахскими воинами» [Там же, с. 78, рис. 32, 1].
Таким образом, шлем КП 2067/8 уже привлекал внимание исследователей. Однако его детальные фотографии и размеры ранее не публиковались. Необходимо отметить, что шлем рассматривался в общем ряду боевых наголовий номадов Центральной Азии, но ни разу не становился объектом специального научного исследования. Кроме того, не были достоверно установлены место обнаружения данного предмета защитного вооружения и его «музейная история», хотя эти сведения очень важны для датирования и атрибутирования наголовья. Наконец, при первичной публикации шлема не учитывался связанный с ним головной убор, который представляет несомненный научный интерес.
Описание шлема и подшлемника
Шлем по материалу относится к классу железных, по конструкции тульи – к отделу клепаных, по форме купола – к типу сфероцилиндрических. Его высота 25,5 см. Шлем довольно сильно деформирован (см. рис. 1, 1–4 ), по этой причине лобно-затылочный диаметр наголовья (19,5 см) значительно меньше височного (22 см). До повреждения тульи диаметр шлема составлял, скорее всего, ок. 20–21 см. Вес наго-ловья (без учета отсутствующего навершия, козырька и бармицы) – 0,92 кг.
Тулья шлема склепана из восьми S-образных в профиле пластин-секторов – четырех основных пластин и четырех накладок, которые по размерам практически не различаются. К настоящему времени верхние концы пластин тульи не сохранились (см. рис. 1, 5 ), однако можно предполагать, что изначально накладки имели удлиненно-трапециевидную форму, а основные пластины-сектора удлиненно-подтреугольную. Судя по другим шлемам подобного типа, заостренные лопасти пластин, согнутые под прямым углом, служили в качестве подложки-основания для крышкообразного подвершия* наголовья [Бобров, Орленко, 2020а, с. 75, 86, 89, 93; 2020б, с. 1195, 1200]. Благодаря такой форме, а также S-образному профилю пластин тульи, шлем в собранном виде приобрел сфероцилиндрическую форму.
Следует обратить внимание на нестандартный способ расположения пластин, образующих тулью шлема. На большинстве других сфероцилиндрических наголовий пластины-накладки размещены симметрично на четырех сторонах купола по линии лоб-уши-затылок [Бобров, Орленко, 2020б, с. 1192, 1193, 1196, 1197]. На четырех сторонах рассматриваемого шлема расположены не накладки, а основные пластины тульи шлема, благодаря чему наголовье приобрело оригинальный внешний вид.
Каждая пластина-накладка незначительно перекрывает края двух соседних пластин и соединяется с ними при помощи двух пар симметрично расположенных железных заклепок с округлыми шляпками диаметром 0,3 см. Часть заклепок к настоящему времени утеряна (см. рис. 1, 3 ).
Основным фиксатором пластин в нижней части тульи является широкий железный обруч, скрепленный на затылке шлема с помощью трех вертикально расположенных заклепок**. Короткий край обруча украшен остроугольным вырезом (см. рис. 1, 4 , 6 ).
Шлем венчало навершие, от которого к настоящему времени частично сохранилось лишь металлическое подвершие (пластина-основание) характерной крышкообразной формы. Центральная (плоская) часть подвершия была утеряна (см. рис. 1, 5 ). В образовавшееся отверстие (диаметр 4,8 см) вставлена кисть из конского волоса*. Вертикальный бортик под-вершия оформлен по нижнему краю выпуклым валиком. С тульей шлема подвершие соединялось с помощью железных заклепок.
На поверхности тульи имеются ржавчина, трещины, царапины, потертости и пробоины. Утрачены отдельные заклепки. Частично обломаны края пластин-накладок на налобной части шлема (см. рис. 1, 1 ), а также верхний край обруча наголовья (см. рис. 1, 1 , 4 ). Фрагментарно сохранилось крышкообразное под-вершие. В наибольшей степени пострадала затылочная часть тульи – в ней имеется сквозная пробоина с рваными краями (см. рис. 1, 2 , 4 ). В настоящее время бóльшая часть шлема покрыта ржавчиной, которая придает тулье темный цвет. Однако в местах, где ржавчина удалена, хорошо видна светло-серая железная поверхность (см. рис. 1, 2 , 4 ).
Вдоль нижнего края обруча шлема пробиты округлые сквозные отверстия. В некоторые из них вбиты заклепки с уплощенными шляпками. Весьма вероятно, что первоначально эти отверстия служили для подвешивания бармицы, защищавшей уши и шею воина.
Важным элементом оформления шлемов рассматриваемого типа часто был козырек обычной или «коробчатой» конструкции («коробчатый» козырек состоял из горизонтальной «полки» и вертикального «щитка»). В шлеме из ЦГМ РК имеются два отверстия, пробитых в височных зонах обруча. Возможно, в первоначальной комплектации наголовья отверстия служили для крепления заклепок, соединявших тулью с боковыми лопастями козырька. В настоящее время в правое отверстие вставлена заклепка, левое пустое. Не исключено, что на финальном этапе эксплуатации шлем уже не имел козырька. В этот период указанные отверстия могли служить для крепления подбородочных ремней.
Вместе со шлемом в собрании ЦГМ РК хранится головной убор, который может быть атрибутирован как подшлемник (см. рис. 2). Невысокая округлая тулья (высота 17 см, диаметр 22 см) сшита из двух слоев ткани, между которыми проложена тонкая шерсть молочного цвета. «Покрышка» головного убора выполнена из выцветшей светло-желтой холщовой ткани мелкого переплетения (см. рис. 2, 1 ). На ее поверхности мастерами-реставраторами ЦГМ РК Д.Т. Ибра-
-
*Согласно имеющейся информации, кисть была вставлена в отверстие уже во время нахождения шлема в музейном собрании.
евой и О.Б. Перовой выявлены следы ржавчины (возможно, от соприкосновения с внутренней поверхностью купола шлема). Подкладка наголовья изготовлена из хлопчатобумажного велюра терракотового и светло-коричневого цвета. Как «покрышка», так и подкладка сшиты из четырех треугольных клиньев, при этом подкладка простегана мелкими частыми стежками (см. рис. 2, 2 ).
Датировка и атрибуция
Ранее было установлено, что клепаные сфероцилиндрические шлемы, составленные из четырех основных пластин и четырех пластин-накладок, не характерны для центральноазиатских кочевников раннего и развитого Средневековья, но они достаточно часто встречаются среди материалов позднего Средневековья и раннего Нового времени [Бобров, Орленко, 2020б, с. 1198].
По совокупности признаков шлем КП 2067/8 может быть отнесен к особой группе наголовий, представленных в музейных и частных собраниях Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время нам известно о 14 подобных шлемах. Тулья всех этих сфероцилиндрических наголовий склепана из S-образных в профиле пластин-секторов. Их стыки прикрыты накладками с ровным краем. Численно преобладают широкие накладки, по размерам практически не уступающие основным пластинам тульи. Однако встречаются и более узкие образцы, дополненные ребром жесткости. Бóльшая часть шлемов данной серии снабжена обручем и козырьком «коробчатой» конструкции. На-вершие обычно состоит из крышкообразного под-вершия, плюмажной втулки и фигурных насадок, украшающих купол и одновременно соединяющих тулью с подвершием шлема. Все наголовья серии относятся к защитному вооружению ойратских кочевников XVII – середины XVIII в. [Бобров, Худяков, 2008, c. 440–445, 459–461; Бобров, Орленко, 2020б].
Ближайшими аналогами рассматриваемого шлема являются «малая шапка колмыцкая» (Ор-4645) из Музеев Московского Кремля (ММК) (рис. 3), а также шлем (ВО-69) из арсенала служилых татар Кульмаме-тьевых, хранящийся в фондах Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника (ТИАМЗ). Все три наголовья не только похожи конструктивно, но и практически совпадают по весу и размерам. Шлем из Оружейной Палаты соответствует комплексу вооружения ойратов и датируется 10-ми – серединой 80-х гг. XVII в. [Бобров, Орленко, 2020а, с. 74, 90, 91]. Заказчиком наголовья из собрания ТИАМЗ являлся состоятельный ойратский воин XVII – начала XVIII в. К тобольским татарам шлем попал, возможно, в качестве

Рис. 3. Ойратский шлем, ММК (Ор-4645), 10–80-е гг. XVIII в. [Бобров, Орленко, 2020а].
военного трофея, дипломатического дара или товара, привезенного для торгового обмена [Бобров, Худяков, 2008, с. 441, 442, 460, рис. 190, 3 ]. Несомненное типологическое сходство указанных шлемов с наголовьем из ЦГМ РК позволяет предположить, что все они были изготовлены примерно в один исторический период.
Интерес вызывают причины, побудившие мастера придать шлемам этой серии необычную кувшинообразную форму. Экспериментальные исследования подтвердили справедливость высказанного ранее предположения, о том, что сфероцилиндрическая тулья не имеет заметных функциональных преимуществ перед сфероконической или полусферической тульей. Более того, в случае нанесения сильного горизонтального удара она создает для владельца шлема дополнительные риски [Бобров, Орленко, 2020б, с. 1208–1209]. Основным функциональным преимуществом высокого сфероцилиндрического шлема является его заметность на поле боя*. Командир подразделения в таком шлеме был хорошо виден подчи- ненным в ходе динамичного кавалерийского сражения, что, вероятно, облегчало управление отрядом во время схватки [Там же].
Распространение подобных наголовий у ойратов XVII–XVIII вв. могло быть обусловлено и культурнорелигиозными причинами. Во второй половине XVI – начале XVII в. среди монголов и ойратов распространяется буддийское учение, что приводит к важным изменениям как в духовной жизни, так и в материальной культуре кочевников Центральной Азии. Буддийские символы все чаще начинают использоваться при оформлении монгольского и ойратского защитного вооружения [LaRocca, 2006, p. 75–78, 80–81, 83–84, 88–91; Бобров, Худяков, 2008, c. 433, 440–446, 452, 454, 460–462; Бобров, Ожередов, 2010; Бобров, Орленко, 2020б, с. 1209]. Феномен ойратских сфероцилиндрических шлемов, на наш взгляд, следует рассматривать именно в этом «религиозно-оружейном» контексте. Как показало специальное исследование, по силуэту сфероцилиндрические наголовья напоминают традиционную буддийскую ступу, известную у монголов как субарга ( н ), суварга , а у калмыков как субурган . Она является одним из важных символов «желтой веры» (монг. шар [ а ] шашин *), а также буддийского учения в целом. Данное предположение подтверждается сходством орнаментов на сфероцилиндрических шлемах и буддийских ступах позднего Средневековья и раннего Нового времени [Бобров, Орленко, 2020б, с. 1209–1212]. Не исключено, что такой шлем-«субурган» не только указывал на при-верженно сть его носителя заветам «желтой веры», но и должен был уберечь воина от враждебного магического воздействия.
Шлемы рассматриваемой серии являются разновидностью самых высоких боевых наголовий ойрат-ских кочевников. Общая высота некоторых из них (с учетом трубки-втулки для плюмажа) до стигает ок. 0,5 м [Бобров, Орленко, 2020а, с. 86–87]. Не исключено, что именно эти шлемы сравнивались казахскими сказителями с мұнара – минаретом или высокой и узкой башней [Бекмұхаметов, 1977, б. 121]. Например, в описании внешнего вида «калмакского» (в данном случае «джунгарского») богатыря Шарыша – противника Сабалака (будущего хана Среднего жуза Аблая) – отмечается: «Толщиной с запястье коса навитая вокруг пояса, [а] шлем его похож на мұнара» [Ба-балар сөзі, 2006, б. 31]**. В другом сказании «шлем, подобный мұнара» упоминается в качестве боевого наголовья «калмакского» хана Караная [Бабалар сөзі, 2010, б. 112]. Высокая цилиндрическая часть тульи шлемов рассматриваемого типа, действительно, могла напомнить тюркским номадам башню или минарет. Отметим, что и минарет, и субурган относились к культовым религиозным сооружениям.
Следует указать, что ойраты, проживавшие в различных регионах Евразии, использовали сфероцилиндрические шлемы, близкие по конструкции и декоративному оформлению. Весьма похожие наголовья происходят с территорий юга Западной и Центральной Сибири, Юго-Восточного Казахстана, Западной Монголии, Тибета и др. [LaRocca, 2006, p. 88, 89; Бобров, Худяков, 2008, c. 433, 440–446, 452–454, 460– 462; Бобров, Орленко, 2020б, с. 1199, 1202]. В данной связи для атрибуции изучаемого шлема очень важно определить место его обнаружения. Основная сложность заключается в том, что собранные об этом сведения противоречат друг другу.
Во второй половине 2000-х гг. сотрудники ЦГМ РК сообщили одному из авторов настоящей статьи о том, что шлем был «найден в районе Малой станицы г. Алма-Ате (Верный)». Эта же информация приведена в каталоге предметов вооружения, хранящихся в фондах музея*, a также в монографии К.С. Ахмет-жана «Боевые шлемы казахов» [2015, с. 75]. Однако указанные сведения опровергаются документацией ЦГМ РК. В тексте музейной описи, датированном 26.03.1999 г., указано, что шлем «2067(8)… Найден в р-не Магнитной станицы» (ЦГМ РК. Главная инвен-тар. кн. № 2 основного фонда, с. 106). Имеются в виду крепость (с 1743 г.) и казачья станица (с 1865 г.) Магнитная на юге Урала (в настоящее время г. Магнитогорск). Крепость была основана по инициативе губернатора Оренбургской губ. И.И. Неплюева у горы Магнитной (Атач), где находились богатые залежи железной руды. С учетом указанных сведений музейная история интересующего нас шлема может быть реконструирована следующим образом. После обнаружения в районе Магнитной станицы (т.е. на юго-западе современной Челябинской обл. Российской Федерации) наголовье было отправлено в ближайшее крупное музейное собрание – Музей Оренбургского края (основан в 1830 г.). В 20-е гг. XX в. часть его коллекций была передана в Казахский центральный краевой музей (основан в 1920 г.). Первоначально музей располагался в Оренбурге, однако в 1929 г. был перемещен в Алма-Ату – новую столицу Казакской Автономной Советской Социалистической Республики. Согласно данным руководителя отдела по хранению фондов ЦГМ РК У.А. Ашима, интересующий нас
-
*Насколько нам известно, данный каталог так и не был издан.
шлем входил в число предметов, переданных в Казахский центральный краевой музей (в настоящее время ЦГМ РК).
Если шлем КП 2067/8 действительно происходит из окрестностей станицы Магнитной, то он может быть отнесен к комплексу защитного вооружения волжских или чакарских калмыков. На территории Южного Урала шлем оказался, возможно, в результате одного из многочисленных столкновений калмыков с башкирами или казахами в 20-е гг. XVII – первой трети XVIII в. Во время боевых действий башкиры захватывали большое количество трофеев, среди которых мог быть и интересующий нас шлем. Не исключено также, что наголовье принадлежало одному из калмыцких воинов, который проживал в башкирском или казахском улусе. Во второй половине XVII – первой трети XVIII в. имел место процесс вхождения отдельных групп калмыков в состав башкирского народа. Так, в начале XVIII в. достаточно многочисленная группа «аюкинских калмык»* осела в Терсякской вол. – на восточной окраине исторической Башкирии. Со временем на основе этой группы сложился башкирский род Калмак [История…, 2017, с. 31–35, 188–190].
Ко свенным подтверждением предположения об использовании сфероцилиндрических шлемов на территории Западного Казахстана можно считать купола местных мавзолеев XVII в., по очертаниям напоминающие наголовья рассматриваемого образца [Ахметжан, 2015, с. 75, 78, рис. 32, 4 ]. Возможно, подобные шлемы носили ойратские мигранты, которые, поселившись в данном регионе, поступали на службу к местным тюркским правителям.
Атрибуция шлема из ЦГМ РК как боевого наго-ловья волжских калмыков в определенной мере корректирует сложившееся представление о паноплии этой самой западной группы ойратских кочевников. Кроме того, с учетом данного определения можно утверждать, что даже после переселения в степи Северного Прикаспия калмыки продолжали использовать защитное вооружение центральноазиатского образца. Высокая степень сходства шлемов у монголоязычных кочевников Поволжья, Западной Монголии, Южной Сибири и Тибета указывает на определенную типологическую близость оружейных комплексов ойратских номадов разных регионов Евразии на начальном этапе «эпохи Малого монгольского (ойратского) нашествия» XVII – первой половины XVIII в.
*Название происходит от имени калмыцкого правителя Аюки (1672–1724). Наиболее вероятно, образование среди башкир группы «аюкинских калмыков» связано с откочевкой в начале XVIII в. в Джунгарию сына хана Аюки – Сан-джипа. Около 200 кибиток калмыков были перехвачены башкирами и стали кочевать вместе с ними [История…, 2017, с. 32].
В настоящее время версия о калмыцком происхождении шлема из ЦГМ РК является основной. Однако если наголовье, вопреки данным музейной описи 1999 г., было обнаружено все-таки в Семиречье (как считалось ранее), то оно может быть отнесено к комплексу вооружения восточных сородичей калмыков – джунгар. В любом случае шлем первоначально был изготовлен для ойратского воина-буддиста 10-х гг. XVII – первой трети XVIII в. Нижняя хронологическая граница связана с началом широкого распространения буддизма среди ойратов, верхняя – с особенностями конструкции и оформления тульи изучаемого шлема.
Значительный интерес вызывает подшлемник рассматриваемого наголовья, поскольку ранее оригинальные подшлемники монголоязычных номадов позднего Средневековья и раннего Нового времени были известны только по письменным и изобразительным источникам*. По покрою и цветовому решению подшлемник существенно отличается от цинских аналогов. При этом его покрой в целом соответствует описанию подшлемника бывших мусульманских вассалов ойратов Джунгарии, которое было приведено в начале второй половины XVIII в. цинскими авторами «Циндин Хуанъюй Сиюй тучжи»: «Дуюйлэга (монг. дуулга, калм. дуулх ) – шлем. Внутри имеется шапка [которая] покрывая [голову] спереди, достигает лба, раскидываясь сзади, достигает шеи, свисая слева и справа, достигает обоих ушей. Называется ту-бо-бэй-эр-ку (тюркс. төбе бөрік )» [Бобров, Пастухов, 2021, с. 203]. С учетом размеров подшлемника из ЦГМ РК его нижний край проходил по линии лоб-уши-затылок, как это и отмечено составителями цин-ского источника.
Цветовое решение подшлемника из ЦГМ РК вряд ли является случайным. Желто-красная гамма была характерна для головных уборов ойратов XVII– XVIII вв. Тулью ойратских колпаков и шапок (как и у рассматриваемого образца) традиционно покрывали тканью желтого цвета, а кисть улан зала и иногда подкладку делали из красной материи [Бобров, Оже-редов, 2021, с. 185, 186–187, рис. 90, 1 ].
Заключение
На основе анализа музейной документации установлено, что шлем КП 2067/8 происходит не из Семиречья, как считалось ранее, а из района станицы Магнитная на юге Урала. Шлем и связанный с ним матерчатый головной убор, судя по сохранности, не являются предметами, которые были обнаружены в археологи- ческих памятниках или относились к случайным находкам. Наиболее вероятно, что они были приобретены у представителей одной из семей местных кочевников, хранивших данные предметы на протяжении жизни нескольких поколений. Первоначально боевое наго-ловье поступило в Музей Оренбургского края, оттуда его передали в Казахский центральный краевой музей.
Изучаемый шлем из ЦГМ РК входит в состав большой серии позднесредневековых ойратских сфероцилиндрических наголовий. Мастера, ковавшие шлемы рассматриваемой серии, возможно, хотели воплотить в них образ буддийской ступы, известной у калмыков под названием субурган . Весьма вероятно, что именно эта разновидность ойратских наголовий упоминается в народных казахских сказаниях как «калмакский» шлем, похожий на мұнара – узкую и высокую башню или минарет. В отличие от других сфероцилиндрических наголовий шлем из ЦГМ РК сохранил оригинальный подшлемник из органических материалов.
Конструкция и оформление шлема позволяют датировать его 10-ми гг. XVII – началом XVIII в. Это определение подтверждается датой близких по конструкции сфероцилиндрических шлемов из ММК и ТИАМЗ. Судя по ме сту обнаружения, наголовье было изготовлено для ойратского воина-буддиста из числа волжских или чакарских калмыков. Менее вероятно джунгарское происхождение шлема. На территорию Южного Урала он мог попасть как военный трофей, дипломатический подарок или товар, привезенный для обмена. Не исключено также, что шлем принадлежал одному из калмыцких воинов, осевших на территории башкирских или казахских владений в середине XVII – первой трети XVIII в.
Шлем КП 2067/8 интересен для оружиеведов, военных историков, этнографов, религиоведов и культурологов, занимающихся изучением военно-культурного наследия номадов Евразии. Его научная ценность обусловлено тем, что это первый сфероцилиндрический ойратский шлем, относящийся, скорее всего, к комплексу вооружения волжских калмыков. Это существенно расширяет наши представления о пано-плии самой западной группы ойратских кочевников, переселившихся на территорию Северного Прика-спия в первой половине XVII в. Входящий в комплект с боевым наголовьем подшлемник является единственным известным сегодня образцом ойратских подшлемников, датированных периодом позднего Средневековья и раннего Нового времени.
Исследование проведено в рамках Государственного задания Минобрнауки в сфере научной деятельности (проект № FSUS-2020-0021). Выражаем благодарность ру- ководителям отдела по хранению фондов ЦГМ РК У.А. Ашим, М.К. Жунусовой, мастерам-реставраторам ЦГМ РК Д.Т. Ибраевой и О.Б. Перовой, фотографам ЦГМ РК Л.Н. Агибаевой, Д. Кездикбаеву.
Список литературы Ойратские сфероцилиндрический шлем и подшлемник из собрания Центрального государственного музея Республики Казахстан
- Ахметжан К.С. Этнография традиционного вооружения казахов. – Алматы: Алматыкітап, 2007. – 216 с.
- Ахметжан К.С. Боевые шлемы казахов (история, истоки, традиции). – Астана: [б.и.], 2015. – 102 с.
- Бабалар сөзі: Жүз томдық. Батырлар жыры. – Астана: Фолиант, 2006. – Т. 29. – 400 б.
- Бабалар сөзі: Жүз томдық. Батырлар жыры. – Астана: Фолиант, 2010. – Т. 58. – 432 б.
- Бекмұхаметов Е.Б. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Түсіндірме сөздік. – Алматы: Қазақстан, 1977. – 200 б.
- Бобров Л.А., Ожередов Ю.И. Позднесредневековый панцирь-«халат» воина-буддиста (Из истории «оружейного» собрания МАЭС ТГУ) // Материалы и исследования Древней, Средневековой и Новой истории Северной и Центральной Азии. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. – Т. III, вып. 1. – С. 7–64.
- Бобров Л.А., Ожередов Ю.И. Доспех воина Джамсарана. Центральноазиатский панцирь-«куяк» из собрания МАЭС ТГУ. – Новосибирск: ИПЦ Новосиб. гос. ун-та, 2021. – 228 с.
- Бобров Л.А., Орленко С.П. «Калмыцкие» сфероцилиндрические шлемы из собрания Музеев Московского Кремля // Историческое оружие в музейных и частных собраниях. – М.: БуксМАрт, 2020а. – Вып. 2. – С. 72–103.
- Бобров Л.А., Орленко С.П. «Шапка колмыцкая болшая» из собрания Музеев Московского Кремля // Oriental Studies. – 2020б. – № 5. – С. 1184–1217.
- Бобров Л.А., Пастухов А.М. Вооружение и знамена мусульманского населения Восточного Туркестана и сопредельных территорий середины XVIII в. по материалам «Циньдин Хуанъюй Сиюй тучжи» // Монголоведение. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 186–221.
- Бобров Л.А., Рюмшин М.А. «…И против них не стаивали они нигде и биться с ними не умеют». Оружейный и военно-тактический аспект калмыцко-ногайских и калмыцко-татарских войн первой половины – середины XVII в. // Золотоордынская цивилизация. – 2015. – № 8. – С. 357–378.
- Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV – первая половина XVIII в.). – СПб.: Фак. филол. и искусств СПб. гос. ун-та, 2008. – 770 с.
- История башкирских родов. – Уфа: Китап, 2017. – Т. 27: Сарт и Калмак (сборник документов и материалов). – 456 с.
- Кочевые империи Евразии: особенности исторической динамики. –М.: Наука, Вост. лит. 2019. – 503 с.
- LaRocca D. Warriors of the Himalayas: Rediscovering the Arms and Armor of Tibet. – N. Y.: Yale Univ. Press, 2006. – 307 p.