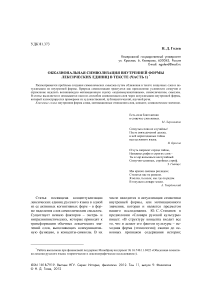Окказиональная символизация внутренней формы лексических единиц в тексте (часть 1)
Автор: Голев Николай Данилович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Семантические и прагматические параметры слова в языке и тексте
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема создания символических смыслов путем сближения в тексте созвучных слов и актуализации их внутренней формы. Природа символизации трактуется как преодоление условности созвучия и стремление наделить возникающую мотивационную сцепку «надкоммуникативным», символическим, смыслом. В статье выделяется и описывается один из способов символизации слов через актуализацию внутренней формы, который иллюстрируетсяпримерами из художественной, публицистической, научной речи.
Внутренняя форма слова, мотивационные отношения слов, концепт, символическое значение
Короткий адрес: https://sciup.org/14737964
IDR: 14737964 | УДК: 81.373
Текст научной статьи Окказиональная символизация внутренней формы лексических единиц в тексте (часть 1)
Есть сила благодатная в созвучье слов живых.
М. Лермонтов
Созвучья слова не случайны!
Пусть связь речений далека, в ней неразгаданные тайны всегда живого языка.
В. Брюсов
И чуть запросит сердце тайны, Напевных рифм и строгих слов – Ты в хор вольешься неслучайный Созвучно-длинных, стройных строф.
З. Гиппиус
Мы крепко связаны разладом; Столетья нас не развели.
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом
В текущем словаре земли.
А. Твардовский
Статья посвящена концептуализации лексических единиц русского языка в одной из ее активных когнитивных форм – в форме наделения слов символическим смыслом. Существует немало факторов – экстра- и интралингвистических, которые приводят к трансформации обычных лексических значений слов, выполняющих коммуникативную функцию, в концепты-символы. В их числе находится и актуализация семантики внутренней формы, или мотивационного значения, которая и является предметом нашего исследования. Ю. С. Степанов в предисловии «Словаря русской культуры» пишет: «В структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история;
современные ассоциации; оценки и т. д.» [1992. С. 41]; автор отмечает далее наличие в каждом концепте трех слоев: «(1) основной актуальный признак; (2) дополнительный или несколько дополнительных, “пассивных” признаков, являющихся уже неактуальными, “историческими”, (3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во внешней словесной форме » [Там же. С. 42] (выделено нами. – Н. Г. ). Предлагаемая статья является продолжением ряда других наших работ, которые направлены на выявление причин, приводящих к формированию «мотивационной константы» – устойчивого содержательного слоя в слове, формируемого его внутренней формой, системообразующими возможностями этого слоя и т. п.) [Голев, 1989; 1990; 1996а; 1996б; 1998а; 1998б]. В данном исследовании основной акцент делается на окказиональных истоках концептуализации мотивационных смыслов, создаваемых их авторами в конкретных речевых ситуациях для осуществления разнообразных прагматических задач. Представление и концептологическое описание таких задач – целевая установка настоящего исследования.
Интерес к мотивационной семантике концептного типа устойчив в российской лингвистике [Бабаева, 1998; Байрамова, Яп-парова, 2003; Голев, 1998б; Степанов, 1992]. Значительный вклад в ее изучение внесла сибирская мотивология, прежде всего представленная исследованиями О. И. Блиновой [2003; 2007а] и другими представителями Томской мотивологической школы (см.: [Бельская, 2001; Найден, 2001] и др.). В этом ряду достойное место занимают работы Н. А. Лукьяновой, посвященные изучению экспрессивных возможностей русского языка; среди этих возможностей автор системно отмечает и подробно описывает экспрессивный потенциал мотивированности русского слова [Лукьянова, 1976; 1979; 1986; Телия и др., 1991. С. 157–178].
Немало работ российских лингвистов посвящено и окказионально-текстовой актуализации мотивационных отношений, приводящей к созданию эстетического эффекта [Блинова, 2007а; Болотнова, 1994; Веледин-ская, 1997; Голев, 1998б; Гончаренко, 1995; Гридина, 1996; Дубина, 2001; Зубова, 1989; Михайлова, 2005; Николина, 1999; Сивуха, 1984; Хижняк, 1975; Ховаев, 1987]. В нашем исследовании такого рода актуализация рассматривается как проявлении символизации. Ее инвариантной когнитивной установкой, на наш взгляд, является эксплуатация эффекта семантизации созвучия в обыденном языковом сознании, для которого созвучные слова естественным образом представляются семантически близкими, а сама созвучность – неслучайной. Разумеется, такой эффект восходит к естественной смысловой близости родственных слов, отмеченной еще В. Гумбольдтом, который, говоря об универсальном принципе строения слова, утверждал, что «вполне естественно обозначать родственные понятия при помощи родственных звуков», что «если человек более или менее отчетливо воспринимает разумом истоки производности понятий, то им должны соответствовать и истоки произ-водности в звуках, с тем чтобы не нарушать родства понятий и звуков» [1984. C. 90–91]. То обстоятельство, что родственность как генетическая близость слов с течением времени стихийным образом утрачивается и трансформируется в синхронную условность, обычно плохо осознается массовым обыденным сознанием, для которого характерно ощущать на подсознательном уровне (а нередко и выводить в светлое поле сознания) эту связь, восстанавливать ее или доверять тем попыткам воссоздания (создания), которые предлагает автор окказиональной мотивизации. Эти моменты отражены в приведенных эпиграфах из стихотворений русских поэтов, которые сами находятся во власти данной стихии и еще более усиливают ее. «Я волхв, ты волк, мы где-то рядом В текущем словаре земли», – пишет А. Твардовский, предлагая читателю интуитивно почувствовать (а кому-то и осознать на метаязыковом уровне) связь между созвучными словами ВОЛХВ и ВОЛК, наделив ее символическим смыслом. В отличие от метафоры, где связь строится на отыскании подобия, в парономазии (так часто именуется смысловое сближение созвучных слов) символического типа подобие или метонимическая смежность не предполагается, достаточно намека на близость, на наличие (пусть таинственное, неразгаданное, предназначенное для разгадки). Истоки структуры слова и ее компонентов заключены, конечно, в генезисе слова, но далее, осуществив генетическую функцию, они не утрачивают своей функциональности, но сохра- няют ее в трансформированном (адаптированном под современное понимание) состоянии. Генетическое в составе любого феномена амбивалентно: оно факт истории феномена и факт его современного состояния. «Генетическая связь – это связь, характеризующая процесс перехода одного из предметов в другой, это такого рода любое изменение, при котором изменяющийся предмет не исчезает абсолютно, а всегда в преобразованном виде включается в результат изменения» [Плотников, 1974. С. 64]. Из смиренья не пишутся стихотворенья, // и нельзя их писать ни на чье усмотренье. // Говорят, что их можно писать из презренья. // Нет! Диктует их только прозренье (Л. Мартынов). Понятно, что слова презренье и прозренье утратили генетическую связь, но в данной строфе она ситуативно восстанавливается на новой основе. Утрата словом связи с генетическими истоками вызывает сопротивление не только обыденного, но и научно-философского сознания. М. Хайдеггер в поисках истинного бытия обратился к языку, где, по его мнению, оно еще сохранилось, несмотря на то, что современные языки отошли от истины в результате чрезмерной технизации, т. е. использования языка как средства общения, передачи информации. Поэтому философ ставил задачу прислушиваться к языку, особенно к его древним состояниям, и к языку поэзии, в котором также еще живет нетехнизированное отношение к истине. «…М. Хайдеггер стремится в нашем подержанном и поблекшем языке снова высветить этимологическое начало и с его помощью опустить свет в архаические глубины, сохранившие подлинную правду» (цит. по: [Wandruszka, 1958. S. 858]). Таким образом, слову «этимология» в данной концепции возвращается его исходный смысл – «учение об истине».
На возможность опоры на генетическое родство для создания суггестивного эффекта лингвисты указывали неоднократно; например, А. А. Зализняк, критикуя попытки псевдонаучного этимологизирования на основе случайных созвучий, отмечает: «Обратимся теперь к технической стороне сближений. Созвучия слов обладают могучей силой эмоционального и эстетического воздействия. Это один из строевых элементов поэзии. Если два слова по звучанию похожи, значит, между ними должна быть какая- то связь – это наивно-поэтическое ощущение бывает у каждого ребенка, а многие сохраняют его и во взрослом возрасте. Древние тексты содержат множество примеров наивно-поэтического осмысления слов, в особенности собственных имен» [2010. С. 72] (см. об этом также: [Базылев, 2009. С. 26]).
Очерченный выше инвариант символизации как преодоления условного начала слова и его мотивационных отношений реализуется в разных функциональносмысловых вариантах, у каждого из которых наличествуют свои структурные и содержательные особенности и приоритеты. Представление и общая характеристика различных вариантов в очерченном аспекте – предмет дальнейшего изложения.
Мы предлагаем два гиперварианта, один из которых условно назовем интенсивным, другой – экстенсивным. При интенсивном, или метаязыковом, способе автор окказиональной мотивации в той или иной форме апеллирует к метаязыковому сознанию, предлагая адресату задуматься о неслучайности созвучия, сам факт сопряжения далекого рождает символичность как наведенную сему [Стернин, 1985. С. 56]. При экстенсивном способе актуализация внутренней формы (мотивационных отношений слов) как бы прячется автором в тексте, растворяется в нем. Подчеркнем, что границы между данными способами актуализации достаточно размыты.
Интенсивный (метаязыковой) вариант прямой актуализации символического созвучия. При символическом сближении созвучных слов актуализируется момент «неслучайности» связи по форме. Ср. «Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века.) Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, - не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное» (М. Цветаева. Воспоминания). «Сольются ли вместе песни домры и домбры?» - заголовок газетной статьи (Алтайская правда), в чистом виде иллюстрирующий данный вариант эстетического использования звуковой близости двух слов, намекающей на близость (генетическую и синхронную) смыслов. Прямая апелляция к осознанию неслучайности созвучий: «И, наверное, символично, что название слова озеро, созвучное с украинским словом оживе (“оживет”), - станет снова живым, воскреснет» (Лит. газ.); «Наверное, я что-то важное пропустил, и пусть меня другие товарищи поправят. Но мне показалось, что начавшая эту неделю опера “Тоска” своим названием во многом смыслово определили ее сущность» (Лит. газ.); «Удачный термин, остроумный и злой (как бы в пику бесчисленным демократическим “де”) придумал писатель Ю. Поляков: десовести-зация. А ведь всего-то понадобилось лишь одну букву “С” добавить к десоветизации. Как близки оказываются советы и совесть! »(Наш современник).
Литературоведы и критики уже давно обратили внимание на суггестивную роль созвучий символического типа в художественном тексте и в свою очередь охотно обыгрывают его: « Героини обеих новелл (У. Фолкнера . - Н. Г. ) - Эмили и Элли - столь же сходны между собой, как и их имена » (А. Никольский); « Кстати, если у Белова угрожающей фигурой является Бриш , то у Астафьева - рыба берш , хищник с запредельно жутким взором » (Н. Иванова). У ряда исследователей творчества наблюдения в области формальных ассоциаций приобретают характер уже не игрового, а серьезного исследовательского приема, например, в исследованиях текстов В. М. Шукшина С. М. Козловой, ср. один из многих примеров из ее книги, посвященной поэтике рассказов В. М. Шукшина: « Фамилия Кайгородов - тоже значащая, соотнесенная в противоположном смысле с семантикой слова “ Райгородок ”. Райгород - Кайгород . Смысл оппозиции можно перевести так: не обернется ли “ райская ” жизнь всеобщим “ раскаянием ” ?» (С. М. Козлова). Отметим, что П. Флоренский вообще видел в имени (персонажа) некую квинтэссенцию, первоэлемент художественного произведения, из которого оно вырастает; так, аллитерации «Цыган», по мнению данного автора, « несут своими звуками все то же исходное имя Мариула , и оно, господствуя над всеми прочими, с бесспорным правом должно быть предписываемо уже самой сущности, но не как отклик, а как непосредственное явление ее » [Флоренский, 1990. С. 363].
Символичность «от обратного», внешне ведущая к развенчанию смысла созвучия, представлена в примерах: «Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя (название щей в меню «Лебедушка». - Н. Г.) произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды» (В. Войнович); «К диалектике это высказывание Е. Лесото, конечно, некоторое отношение имеет, но, думается, не большее, чем слово тягомотина к закону всемирного тяготения» (Новый мир); «Мы, конечно же, утверждаем плюрализм мнений, но ведь не от слова же плюнуть» (Молодая гвардия); «Вычеркнем из словаря слово “душевность”. А вместе с ним и отрицательно звучащие - “бездушный”, исключим слово “равнодушие”. Сколько проблем сразу отпадет, если душа -пережиток» (Лит. газ.). Однако внешнее отрицание также ведет к актуализации символических смыслов мотивационного значения.
Интенсивный народно-этимологический вариант . Многие авторы в целях символизации слова обращаются к этимологии, как научной, так и народной. При этом чаще всего они не «озабочены» их различением: у обращения к этимологии в художественных и публицистических текстах иные функции.
Рассмотрим несколько примеров этимологических рефлексий в их разнообразных функциональных вариациях. «Кажется, что весь свет сошелся клином на путанах, то есть те, которые путаются (так выводит этимологию обрусевшего испанского слова одна читательница) с иностранными мужчинами» (Аврора). Естественно, что народная этимология чаще всего «доверяется» персонажам с сознанием, не искушенным этимологическим скепсисом, для чего есть немало оснований: обыденное метаязыковое мышление склонно к доверию тому содержанию, которое отражено во внутренней форме слова: «Ты человек ни к чему не прилепленный, сиречь - мещанин! Надо бы говорить мешанин, потому что все в человеке есть, а все смешано, переболтано» (М. Горький); «Гнев - соображал он, -прогневаться, огневаться, - вот он откуда, гнев, - из огня! У кого огонь в душе горит, тот и гневен бывает. А я бывал ли гневен-то? Нет во мне огня» (М. Горький). Последний пример иллюстрирует возможность совмещения народной и научной этимологии (существует этимологическая гипотеза, сближающая слова гнев и огонь), метаязыковых рефлексий и формально- эстетических ассоциаций аллитерационного типа. Формально-семантическое сближение, даже если оно наивное, освежает восприятие слова, и это само по себе преодолевает инерцию «незамечания» двусторонней природы слова и рождает эстетическое отношение к нему. «Не на своем месте слова ставим. Называется погост, а гостят тут века вечные» (М. Горький); «Не находите ли вы, – говорил Аркадий Кирсанов своей невесте, что ясень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит в воздухе, как он» (И. Тургенев). У некоторых авторов активизация внутренней формы становится признаком идиости-ля. Хорошо известно своеобразие «форма-тики» (термин «семантика» явно нуждается в таком противочлене) В. Хлебникова, М. Цветаевой [Зубова, 1989], А. Вознесенского и др.
Весьма типично и осознанное профессиональное использование народно-этимологических сближений слов. « Гадание » и « гадость » – слова однокорневые » – заголовок статьи 1; « Признавая правомерность этих претензий, хочется, однако, сказать, что ничего страшного не случилось хотя бы потому, что “ гласность ” и “ разногласия ” – одного корня» ( Советский спорт ); «Удивительный русский язык, какие в нем тонкие различия! Дерзать и дерзить : одного корня, а какие далекие понятия, а? » (С. Соловейчик). В следующих примерах авторы сопрягают «серьезное» этимологизирование с народно-этимологическими ассоциациями: « Еще говорили: прошвырнуться по броду ... “ Брод ” был во всех более или менее крупных городах. Русское значение слова “ брод ” (само слово восходит к названию нью-йоркской улицы БРОДВЕЙ ) подкрепляло жизненность идиомы: прошвыри-вались медленно... будто вброд » (А. Битов).
OCCASIONAL SYMBOLIZATION OF THE LEXICAL UNITS INNER FORM IN THE TEXT