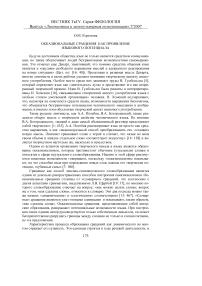Окказиональные сращения как проявление языкового потенциала
Автор: Корытова Ольга Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120446
IDR: 146120446
Текст статьи Окказиональные сращения как проявление языкового потенциала
ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ СРАЩЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Будучи достоянием общества, язык не только является средством коммуникации, но также обеспечивает людей безграничными возможностями самовыражения. Это отмечал еще Декарт, заметивший, что помимо средства общения язык является и «орудием свободного выражения мыслей и адекватного реагирования на новые ситуации» (Цит. по: [16: 40]). Продолжая и развивая мысль Декарта, многие лингвисты в своих работах уделяют внимание творческому аспекту языкового употребления. Особое место среди них занимают труды В. Гумбольдта [5], который определяет язык как «деятельность духа» и представляет его как непрерывный творческий процесс. Идеи В. Гумбольдта были развиты и интерпретированы Н. Хомским [16], связывающим «творческий аспект» употребления языка с особым «типом умственной организации» человека. Н. Хомский подчеркивает, что, несмотря на конечность средств языка, возможности выражения бесконечны, что объясняется безграничным потенциалом человеческого мышления и воображения, и именно этим обусловлен творческий аспект языкового употребления.
Такие русские лингвисты, как А.А. Потебня, В.А. Богородицкий, также разделяли общую мысль о творческом свойстве человеческого языка. По мнению В.А. Богородицкого, «всякий и даже самый обыкновенный разговор представляет собой творчество» [1: 435]. А.А. Потебня рассматривает язык не просто как средство выражения, а как «индивидуальный способ преобразовывать ее», создавать новую мысль. Лингвист сравнивает слово с игрой и считает, что «язык во всем своем объеме и каждое отдельное слово соответствует искусству» [14: 128] и является творчеством настолько же, насколько и искусством.
Одним из аспектов проявления творческого начала в языке является образование окказионализмов, которые противостоят обычным (узуальным) словам и относятся к сфере неузуального словообразования. Именно в этой сфере реализуются языковые возможности говорящего, поскольку «окказионализмы показывают, на что способен язык при порождении новых слов, каковы его творческие потенции, глубинные силы» [7: 180].
Сращение как способ лексико-синтаксического словообразования является одним из довольно распространенных способов построения окказионализмов. Окказиональные сращения отличны от «словарных» сращений, что соотносимо с двумя аспектами грамматики, выделяемыми Л.В. Щербой [19: 17], по мнению которого словообразование отвечает на вопрос: «как можно делать слова»; вопрос же о том, «как сделаны слова», относится к словарю. Эти два подхода можно также назвать «динамическим» и «статическим» соответственно [13: 467]. «Словарные» сращения являются уже готовыми единицами и показывают, таким образом, «как сделаны слова». Окказиональные сращения, представляющие собой авторские образования, раскрывают потенциальные возможности языка. При построении таких единиц автор руководствуется только собственным замыслом, он может беспрепятственно разрушать границы между словами не только в словосочетании, но и в предложении.
Характеристика процесса образования сращений как динамического во многом отражает его сущность. Эти единицы строятся в ходе речевой деятельности, и непреднамеренный характер соединения элементов синтаксической конструкции при образовании нового слова является одной из основных отличительных черт сращений. Для рассматриваемых нами единиц это утверждение особенно актуально, поскольку они являются не только сращениями, но также и окказионализмами. Окказионализмы соотносятся с речью, в отличие от узуальных слов, которые входят в язык. Неузуальная единица, ставшая элементом языка, перестает быть окказионализмом.
Окказиональные сращения особенно четко отражают идею о проницаемости границ между лексическим и синтаксическим уровнями языковой системы. Если структура довольно большого числа словарных сращений претерпела множество изменений в ходе своего развития и компоненты слова невозможно вычленить без тщательного исторического анализа, то компоненты окказиональных сращений (а значит, и лежащие в их основе синтаксические структуры) легко распознаются. Этот факт еще раз заставляет вспомнить о том, что сращения создаются в ходе речевой деятельности, строятся на основе единиц, естественным образом соседствующих друг с другом в речевой цепи.
В этой связи весьма плодотворной представляется мысль С.С. Высотского о ведущей роли при изучении потока живой речи «структуры фонетического слова, единицы, в которой, собственно, и реализуются явления звукового строя русского языка и его говоров» [4: 11]. В разных языках фонетические слова выделяются на основе различных критериев. В русском и английском под данным понятием подразумевают группу слогов, объединенную одним ударением. В языках, подобных французскому, относящемуся к числу анакцентных, говорят о ритмической группе как аналоге фонетического слова. Многие лингвисты считают, что «французская ритмическая группа функционально эквивалентна русскому фонетическому слову» [8: 50]. Заметим, что наиболее спорный вопрос, касающийся фонетического слова, связан с критериями вычленения данной единицы в потоке речи. Попытки разрешить эту проблему представленны в работах таких лингвистов, как Ж. Ванд-риес [2], В.Б. Касевич [8], Н.С Трубецкой [15], А.Я. Шайкевич [17], Л.В. Щерба [18] и др.
Фонетическое слово может и не совпадать со «словарным» словом. Сочетания самостоятельных частей речи со служебными считаются одним фонетическим словом, если последние в этом сочетании не имеют ударения. Во всех языках есть частицы, предлоги или союзы, произошедшие из самостоятельных частей речи. Такие самостоятельные лексические единицы, лишенные своего прямого значения и играющие роль «грамматических орудий», Ж. Вандриес именует «пустыми словами». Лишаясь своего конкретного значения, они приобретают отвлеченное значение, позволяющее им выражать определенную грамматическую категорию. Очевидно, что этот процесс освобождения от собственного значения происходит постепенно и незаметно и занимает достаточно длительное время в истории развития того или иного языка.
Подобное можно наблюдать, когда слово образовано способом словосраще-ния. Два (или более) значимых слова, сливаясь и образуя одну лексическую единицу, перестают быть отдельными частями речи. Они становятся как бы строительным материалом для рождения нового самостоятельного слова.
В современной литературе отмечается тенденция к использованию образований, «сращенных» на базе словосочетаний и предложений и имеющих слитное или дефисное написание. Представляется, что только единицы, созданные на ос- нове словосочетаний, можно признать в качестве слов-сращений, поскольку их цельнооформленность (слитное или дефисное написание) отвечает уже имеющейся понятийной цельности или стремлению к ее достижению. В этом смысле наглядным примером может служить «школуспенскава» в воспоминаниях героини романа «На солнечной стороне» Д. Рубиной: «Школа имени В.А. Успенского. Кто он был, этот деятель, в честь которого множество детских губ повторяли благоговейно “школуспенскава”, или просто – “Успенка”? Не помню». Писательница фактически сама объясняет «сращенную» форму: в детском восприятии «школуспен-скава», или «Успенка», – это особое понятие, многократно и благоговейно повторяемое детьми. То, что сознавалось как синтаксически сложное (словосочетание), «в уме индивидуумов» уже не разлагается и становится простым (словом), так что «в этом процессе мы видим проявление принципа экономии и удобства в мыслительно-речевой деятельности» [1: 441]. Сравним «школуспенскава» с «soon-to-be-greats» в романе О. Голдсмит «Клуб первых жен»:
«Phoebe came from an obscenely wealthy family who provided for her while she developed her art. He had recognized her talents, all of them, and she had exposed him to the greats and soon-to-be-greats of the very fashionable downtown art scene».
В понятийном отношении « soon-to-be-greats », особенно в связи с его синтагматическим столкновением с «the greats», могло бы иметь сращенный вид « soon-tobegreats » для обозначения понятия «те, кто вот-вот станут великими». Возможно, именно четырехкомпонентность, т.е. компонентная перегруженность, удерживает автора от слитного написания, что не мешает читателю воспринимать « soon-to-be-greats » как цельное понятие. Иное дело – «сращенная» форма, соотносимая с предложением. Проанализируем имеющиеся примеры на английском языке. Имя персонажа в сказке Р. Киплинга «How the First Letter was Written» звучит как « Man-who-does-not-put-his-foot-forward-in-a-hurry », а имена животных из сказки «The Crab that Played with the Sea» – All-the-Cow-there-was, All-the-Elephant-there-was и т.п. Как видно, данные «сращенные» образования не ассоциируются с отдельными понятиями, но используются для характеризующего наименования персонажей. Слитное написание отмечается при подчеркивании состояния панического страха героини:
«The key doesn’t turn. My heart pounds. Blood chills. Of course the key doesn’t turn. All the locks are open. What outrage is Manhattan fate testing me with now? Junkyrapistsecond-storyman . Should I call the elevator man?» (Greene G. «Blue Skies, No Candy»).
Дж. Клэвел в романе «Шогун», передавая разговор между капитаном корабля Erasmus и его моряком, использует «сращенное» предложение, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что моряк с готовностью выпалил это предложение: «Sonk! Did you find any grog?» « Nosirnotagodcurseddribble» .
Окказиональные сращения можно разделить на две большие группы. В первую из них входят слова, употребляемые авторами для отражения речи героев повествования. Вторая группа включат единицы, составляемые намеренно на основе употребляемых в речи сочетаний слов для названия определенных мест, людей, понятий.
Прежде чем перейти к описанию сращений, входящих в первую группу, обратимся к вопросу о двустороннем характере речевой деятельности. Возможность использования сращений для передачи чужой речи во многом определяется тем, что говорящий и слушающий могут интерпретировать одно и то же высказывание по-разному. Когда человек говорит, он стремится донести свои мысли до другого человека. По признанию О. Есперсена [6: 15], этот важный момент нельзя упускать из виду, нельзя забывать о том, что есть люди, «производящие и воспринимающие речь», поскольку осознание этого помогает нам «понять природу языка». К оппозиции «говорящий – слушающий» принято относиться как к «двуединому функциональному целому» [3: 5], поскольку именно из коммуникативного поведения участников общения складывается речевой акт в целом. Говорящий и слушающий находятся в «обратной связи» друг с другом: слушающий определенным образом реагирует на услышанное, и говорящий вынужден в производить «постоянную корректировку речи в зависимости от этой реакции» [11: 62]. Если этого не происходит, есть вероятность того, что человек останется непонятым, его мысль не будет донесена до собеседника, а ведь основной целью речевой деятельности является передача своих мыслей, идей другому индивиду.
Этот процесс взаимодействия участников речевого акта весьма сложен. В данном случае важен не сам факт разделения ролей участников общения, а осознание того, что они выполняют определенного рода деятельность, направленную на успешное осуществление коммуникации. Особое внимание уделяется этому вопросу в рамках когнитивного направления, где порождение (продуцирование) и понимание речи рассматриваются как когнитивные процессы, постижение которых требует учета множества нюансов. Несмотря на то, что «активная роль в создании и оформлении значений принадлежит именно говорящему» [12: 35], нельзя умалять значимость процедуры понимания. Человек не просто слушает сказанное, он интерпретирует услышанное в соответствии с собственными языковыми знаниями, с собственным внутренним миром, с одной стороны, и реконструирует внутренний мир автора речи, с другой. Таким образом и устанавливаются замыслы говорящего. Когнитивная деятельность, направленная на порождение речи, также весьма многоаспектна. При продуцировании речи не только перекодируются мысли в звуки, но и учитываются цели, преследуемые говорящим, особенности слушающего и возможный эффект, который речь может произвести на адресатов [10]. Являясь по сути «двумя сторонами одной медали», производство и восприятие речи в значительной мере асимметричны, они не протекают как зеркальные процессы, обратные по своей направленности. Если стратегии говорящего заключаются в выборе наилучшей формы для передачи какого-либо значения, то стратегии слушающего состоят в «выборе из возможных для данной языковой формы надлежащего значения» [12: 35]. Возможность достаточно широкого использования слов-сращений авторами художественных произведений не в последнюю очередь обусловлена тем, что между пониманием и порождением речи по определенным причинам возникают некоторые противоречия.
Это особенно наглядно проявляется при восприятии речи детьми. Отдельную подгруппу окказиональных сращений в рамках первой группы составляют слова, используемые для отражения речи детей. В рассказе Л.Н. Толстого «Тихон и Маланья» мальчик не сомневается в правильности используемого им слова кобедня : «- А мать где? - В кобедне, и дедушка в кобедне , - щеголяя своим мастерством говорить, сказал мальчик». В силу незнания и, соответственно. непонимания того или иного слова дети могут соединять, казалось бы, несовместимое. Так, по данным О.И. Колесниковой [9: 154], в стихотворении К. Рылеева в строчках:
Иртыш кипел в крутых брегах.
Вздымалися седые волны… неизвестный топоним Иртыш «распознается» детьми на слух как Иртышки, Ир-тышка пел, Иртышкин.
Использование сращений характерно также для передачи иностранной речи в ее восприятии теми, кто данным языком не владеет, или для описания случаев, когда люди изъясняются на неродном для них языке. В «Клубе бывших жен» иностранец Дуарто говорит: « Whattzamatter? Aaron and his new wife won’t dance?». Сращенное образование whattzamatter в речи Дуарто передает его восприятие фразы what’s the matter ? как единого, нерасчлененного в понятийном смысле целого. А поручик Пирогов из «Невского проспекта» Н.В. Гоголя, знавший по-немецки только «гут морген», немецкое «Gehen Sie» воспринял как одно слово – « гензи »: «Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.
«– Мейн фрау! – закричал он.
– Вас волен зи ох? – отвечала блондинка.
– Гензи на кухню!».
Механизм словосращения при восприятии незнакомых слов иностранцами и детьми выглядит очень похожим, поскольку в обоих случаях «склеивание» слов в одно целое происходит по причине непонятности и неосмысленности слов. Классическим примером такого непонимания иноязычной речи является известное стихотворение В. Жуковского «Каннитферштан», в котором путешествующий по Голландии молодой немец на вопросы о том, кому принадлежит дом, богатый магазин, корабль у пристани и т.д., каждый раз получал ответ: «Каннитферштан». Не зная, что это длинное «слово» по-голландски означает «Я вас не понимаю», немец только удивлялся богатству человека по фамилии Каннитферштан .
К следующей подгруппе относятся случаи использования сращений для передачи эмоционально окрашенной речи героев. При этом часто наблюдается слияние в единое целое имени и отчества при их произнесении героями повествования в состоянии эмоционального возбуждения. Наглядный пример встречаем в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Совершенно пожелтев, продавщица прокричала на весь магазин: – Палосич ! Палосич ! ... Павел Иосифович уже спешил к месту действия». Подобный прием использует и Д. Рубина в книге «На солнечной стороне улицы»: «– Рома, беги сейчас же к Юрькондратьичу , займи еще тыщу. Этим часам цены нет! Им цена десять кусков, а она три просит». В возбужденном состоянии люди как одно слово произносят не только имена и отчества хорошо знакомых им людей, но и другие «обкатанные» постоянным употреблением словосочетания.
В повести «Роковые яйца» М.А. Булгаков описывает эпизод, когда начали одна за другой «издыхать» куры попадьи Дроздовой. Одна из женщин, увидев мучающихся птиц, воскликнула: « Господисусе ! … Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видела, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом». Аналогичный английский пример – for chrissakes – представлен в следующих строчках из романа «Клуб первых жен» О. Голдсмит: «Aaron could hardly believe it. ‘Chris, Jerry manipulated me out, for chrissakes , it’s as simple as that. You’re going to go on working with the man who did that to me?».
В числе окказиональных сращений, входящих во вторую группу, особое место занимают слова, используемые в качестве имен персонажей произведений. Как правило, они имеют определенную художественную нагруженность и помогают охарактеризовать героя. В романе В. Пелевина «Generation “П”», описывающем жизнь российского общества в период, когда жульничество и обман процветали во всех сферах жизни, и особенно в торговле, встречаем упоминание о персонаже, визитка которого выглядела следующим образом:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМПОКО»
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ И СОКИ Менеджер по размещению акций
МИХАИЛ НЕПОЙМАН
Очевидно, что фамилия Непойман – «говорящая»; заслуживает внимания мастерство автора, сумевшего в одном лишь слове дать характеристику человеку, ведущему дела незаконными методами, но достаточно изворотливому, чтобы уходить от правосудия. Одного из персонажей романа «Клуб первых жен» О. Голдсмит называет Mr Wanabe (< want to be ), пытаясь, вероятно, охарактеризовать его как человека, стремящегося сделать успешную карьеру.
Отдельную подгруппу составляют сращения, создаваемые авторами для обозначения придуманных ими самими, совершенно новых понятий. Таков, например, окказионализм В. Хлебникова мореречи , составленный на основе словосочетания «море речи». А в произведении А.А. Кима «Остров Ионы» мы встречаемся со сложным в понятийном отношении сращением « дожизни »: «… расчет путешественников Онлирии зиждился на неоглядном времени, протекающем по жемчужному туману дожизни – и как молния пробивающем земной шар, чтобы улететь далее вперед и в небеса…». Как правило, для раскрытия смысла таких сращений недостаточно обращения только к их внешней форме: необходимо более глубокое осознание замысла писателя.
Помимо авторских новообразований, используемых поэтами и писателями в художественной литературе, в рассматриваемую группу входят также лексические единицы, используемые в языке рекламы для наименования определенного товара, фирмы, телепередачи и т.п. Таковы, например, названия музыкальных групп « Уматурман », « Monalisa », « Непара », в устной речи воспринимаемые как обычные сочетания слов, но привлекающие внимание в письменном виде. В наименовании туристической фирмы « Купитур -Нева» содержится призыв воспользоваться именно ее услугами. А название « Многоламп » указывает на широкий ассортимент продукции магазина. Когда на баночках детского питания написано « Спеленок », очевидно, что эти продукты предназначены для самых маленьких, их можно употреблять буквально «с пеленок». Сращения также широко используются в компьютерной сфере: таковы, например, наименования программы антивируса « CureIt !» и журнала « Computerworld », посвященного информационным технологиям. Не удивительно, что число названий, образованных в результате слово-сращения, постоянно растет: данный способ позволяет создать не только звучное, но и информативное имя для того или иного товара. Одно только умело составленное название может многое сказать о продаваемой продукции или предоставляемых услугах, что часто используется в рекламных целях.
Все изложенное выше позволяет говорить о том, что словосращение является достаточно активным способом неузуального словообразования. Окказиональные сращения не только позволяют авторам проявить свой творческий потенциал, но и показывают, какие скрытые возможности таит в себе язык. С помощью слов-сращений поэтам и писателям удается очень четко и многогранно отражать особенности речи героев повествования, а также создавать совершенно новаторские, самобытные лексические единицы. Сегодня можно говорить о том, что сращение как способ лексико-синтаксического словообразования вновь обретает силу, поскольку активность того или иного способа при создании неузуальных слов является показателем его действенности.