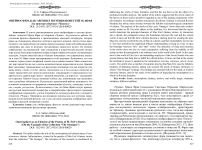Онейросфера как элемент поэтики повестей М. Фрая (на примере сборника "Чужак")
Автор: Сафрон Елена Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль онейросферы в поэтике фэнтезийных повестей Макса Фрая из сборника «Чужак». Актуальность работы обусловлена фактом обращения к произведениям массовой литературы, которые ранее не становились объектом глубокого научного анализа. Автор статьи пред- полагает, что онирические состояния героев указанных повестей необходимо рассматривать как одну из ведущих составляющих сюжетного целого. По мнению современных исследователей, тема сновидения в классической русской литературе всегда была ориентирована на фольклорно-мифологическую составляющую культуры. Анализ повестей цикла «Чужак» показывает, что современные писатели в лице М. Фрая также придерживаются этой традиции. Выясняется, что сны главного героя служат отправной точкой для создания сюжета: Макс сначала видит мир города Ехо во сне, а потом непосредственно переселяется в него. Данный факт воплощает традиционное для фольклора понимание сна как открытия границы между «этим» и «тем» светом. Антиномия сна и бессонницы в повестях не теряет привычной для читателя коннотации: страдающий от невозможности вовремя уснуть герой в мире Земли - рядовой неудачник, а в мире Ехо - выдающийся сотрудник Тайного Сыска, видящий особые сны, помогающие ему выполнять свои служебные обязанности. В результате проделанной работы выясняется, что в повестях номинатив сон приравнен к номинативам обучение, инициация, нападе- ние, смерть, реальность. Делается вывод о том, что Макс Фрай следует принци- пам русской классической литературы и перерабатывает фольклорную традицию изображения сновидений с учетом потребности литературы фэнтези, к которой и относится «Чужак». Материалы исследования значимы как для изучения современной отечественной фэнтези, так и для изучения традиции изображения оней- росферы в русской литературе в целом.
Сон, онейросфера, фэнтези, мотив, реальный мир, магия, шаманская инициация, фольклорная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14914709
IDR: 14914709 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00029
Текст научной статьи Онейросфера как элемент поэтики повестей М. Фрая (на примере сборника "Чужак")
«Чужак» Макса Фрая (псевдоним Светланы Юрьевны Мартынчик, изначально работавшей вместе с художником Игорем Викторовичем Степиным, автором концепции мира, в котором живут персонажи) - первый сборник повестей цикла «Лабиринты Ехо», чью популярность среди современных отечественных читателей невозможно переоценить.
При прочтении произведений сборника невозможно не обратить внимание на то, какую важную роль в тексте играет онейросфера. (Некоторые исследователи используют термин «онейрический», ориентируясь на Эразмову традицию произношения греческих слов, тогда как вариант «онирический», используемый, в частности, Н.Г. Шарапенковой, ориентирован на Рейхлиново произношение, где дифтонг ei (эк) передается звуком и [Шарапенкова 2012]). Под термином онейросфера (от греч. Oneiroj -«сон») мы будем подразумевать измененное состояние сознания, противоположное реальности яви [Нагорная 2004, 3], [Панкратова 2015, 57]. Цель работы - посмотреть на онирические состояния в повестях М. Фрая «как на особый элемент структуры художественного произведения, выполняющий определенные функции в составе целого» [Федунина 2013, 13].
Изучением онирических литературных форм занимаются как писатели, так и ученые-филологи. Так, анализируя русскую литературу XIX в., писатель А. Ремизов в работе «Огонь вещей. Сны и предсонье» указал на сон как на особый литературный прием, чья универсальность определяет идейное единство произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева с будущими, еще не написанными книгами других авторов [Чепор-нюк].
Отдельная глава в монографии «Странный Тургенев» В.Н. Топорова посвящена выделению и описанию снов в произведениях писателя. Со ссылкой на А. Ремизова исследователь говорит о «художественной гипнологии», те. о воплощении в тексте онирических переживаний писателя и его персонажей [Топоров 1998, 137-138], однако описанные переживания представлены В.Н. Топоровым исключительно в контексте биографии И.С. Тургенева и не подвергаются глубокому литературоведческому разбору.
К термину «художественная гипнология» обращается и В.В. Савельева в монографии «Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей». Она, как и А. Ремизов, считает сон литературным приемом, используемым для создания его максимально правдоподобного портрета [Савельева 2013, 13].
Одно из направлений изучения онейросферы в контексте литературного произведения подразумевает «онтологическое восприятие мифа и сна», «анализ структуры сновидения и структуры мифа не только как поэтической формы, но и структуры сознания» [Савельева 2013, 17]. В соответствии с этим подходом, Н.А. Нагорная выделяет такие функции сновидения, как: философско-эстетическая, художественно-психологическая, сюжетно-композиционная, информативная и т.д. [Нагорная 2004, 3].
В свою очередь, автор статьи будет также рассматривать сон как литературный прием, «служащий для самых разнообразных целей формального построения и художественной композиции всего произведения и его составных частей, идеологической и психологической характеристики действующих лиц и, наконец, изложения взглядов самого автора» [Дын-ник 1925, 645].
Как замечает Е.Н. Чепорнюк, описание сновидений в классической русской литературе всегда ориентировалось на фольклорно-мифологическое наследие [Чепорнюк]. Закономерно возникает вопрос: придерживаются ли этой традиции при изображении онейросферы современные писатели в лице М. Фрая?
Согласно научным изысканиям Н.И. Толстого, интерпретация народной сновидческой традиции зиждется на следующих постулатах:
«1. Сон противопоставляется не-сну, яви, обычной жизни.
-
2. Сон - перевернутая явь <.. > повседневно не зримая сторона жизни.
-
3. Сон равносилен смерти. Как смерть, по народным представлениям, не является концом жизни, а лишь переходом в другое состояние, так и сон есть временный переход в другое состояние, в “параллельную жизнь”.
-
4. Сон как “тот” свет. Сон - посещение “того” света. Отсюда во сне естественное, как правило, вполне обыденное, общение с людьми, с близ-228
-
5. Сон - это также открытие границы между настоящим и будущим и в то же время между настоящим и прошедшим. Отсюда восприятие сна как предсказания» [Толстой 1993, 95].
кими (обстановка общения, при этом, обычно “как на этом свете”).
По мнению 3. Фрейда, «любое сновидение оказывается осмысленным психическим феноменом, которое может быть в соответствующем месте включено в душевную деятельность бодрствования» [Фрейд 1991, 7]. Если речь идет о героях фэнтези, происходящее с ними в состоянии измененного сознания, будь то сон или видение, становится не «психическим феноменом», а полноценной составляющей художественной реальности.
Автор статьи полагает, что онирические мотивы определяют и фэнтезийный характер произведения М. Фрая (мы относим «Лабиинты Ехо» к фэнтези благодаря наличию оригинального фантастического мира, управляемого законами магии, главному герою, занимающемуся спасением этого мира, жанровой обусловленностью цикла фольклорно-мифологическими мотивами и т.д.). Погружаясь в сон, Макс полностью стирает границы между реальным и ирреальным миром: «За двадцать девять лет своей путаной жизни тот Макс, каким я был тогда, ночной диспетчер редакции умеренной во всех отношениях газеты, привык придавать особое значение своим снам. Доходило до того, что если мои дела во сне шли не так хорошо, как хотелось бы, я был мрачен <.. >: сны были так же реальны и значительны, как жизнь... или жизнь так же нереальна и незначительна, как сны. <.. > я не видел особой разницы, а потому таскал за собой из снов в явь и обратно все проблемы, ну и радости, конечно» [Фрай 2017,241-243].
Уникальность способностей главного героя обусловлена свойством видеть сны, которые не просто служат проявлением бессознательного, а транслируют события, имеющие место в реальной жизни: «- Знаешь, Макс, что бы это ни было, но ты не из тех, кому кошмары снятся от расстройства пищеварения. Иногда твои сны - не совсем обычные сны. Если это повторится, лучше бы тебе провести у меня еще денек-другой, пока мы разберемся, что к чему» [Фрай 2017, 119].
В мире планеты Земля сон для главного героя - недостижимое благо, а мучавшая его на протяжении всей жизни бессонница - главная причина неудач:
«Я не мог спать по ночам <...>. Зато прекрасно спал по утрам, в то время суток, когда, собственно, и происходит распределение удачи. <.. >
Мои воспоминания детства - это воспоминания <...> о времени, проведенном под одеялом, долгих часах безнадежно испорченных тщетными попытками заснуть. <...> И мучительные пробуждения по утрам, вскоре после того, как наконец удалось заснуть. Разумеется, школу, ради посещения которой мне приходилось так издеваться над собой, я возненавидел. <.. >
Со временем <.. > моя привычка, препятствующая гармоничному слиянию с обществом, усугублялась. Но к тому моменту, когда я окончательно убедился, что такой неисправимой “сове”, как я, ничего не светит в этом мире, принадлежащем
“жаворонкам”, я встретил своего будущего босса, который искал парня, предпочитающего ночной образ жизни. Так я оказался на максимально возможном расстоянии от дома и получил максимально соответствующую моим способностям и амбициям должность: стал Ночным Лицом Почтеннейшего Начальника Малого Тайного Сыскного войска города Ехо сэра Джуффина Халли» [Фрай 2017, И].
Факт созерцания Максом мира Ехо в измененном состоянии сознания с последующим полным физическим перемещением в него воплощает традиционное для фольклора понимание сна как открытия границы между «этим» и «тем» светом [Толстой 1993, 91]: «Люди болтают, что сэр Почтеннейший Начальник нашел вас налом свете, это так?» [Фрай 2017, 361].
Мир сновидений сначала служит сэру Максу утешением, а потом становится единственно возможной, улучшенной моделью реальности, в которой низкий статус героя, занимаемый им ранее в мире планеты Земля, меняется на противоположный. Таким образом, сны Макса - это, в некотором смысле, источник создания художественного мира яви, внутри которого живут все герои «Чужака».
Вместе с тем, творческий характер сна отнюдь не всегда носит положительный характер: именно нахождение в состоянии сна делает героев повестей реально уязвимыми для сил зла, т.е. мы можем говорить в данном случае не просто о сне-кошмаре, а о корреляции сон = нападение; «Малеш Пату утверждает, что ему хотят выдавить глаза, сэр Алараек Васс жаловался, что его “трогали за сердце”, третий случай довольно забавный, - Ханед смущенно улыбнулся, - парень клянется, что ему пытались заклеить задний проход, и если это удастся, он никогда больше не сможет справить нужду... - Все трое постепенно утрачивают Искру! <.. > Я присвистнул: “утратить Искру” - значит внезапно потерять жизненную силу, ослабеть настолько, что смерть приходит, как сон после тяжелого дня <.. > Эта загадочная болезнь - самая большая неприятность, в которую может попасть человек, родившийся в этом Мире» [Фрай 2017, 56].
В отдельных случаях негативные состояния спящих героев достигают своего максимума, в результате чего в тексте реализуется мифологема сон есть смерть. Так, в повести «Король Банджи» ресторатор Итуло кормит некоторых посетителей своего заведения особой магической пищей, вследствие чего они засыпают и сами постепенно превращаются в паштет: «Я оглянулся. В этой клетке тоже лежал человек <.. > Это был кусок мяса, все еще не утративший очертания человеческой фигуры. Кусок ароматного мягкого мяса» [Фрай 2017, 348].
Измененное состояние сознания, грозящее смертью, описывается и в повести «Путешествие в Кеттари» в эпизодах, связанных с образом восставшего из могилы Магистра Кибы Аццаха. Неудачная попытка ожившего покойника наслать смертоносный сон на сэра Макса («Колдовство мертвого Магистра действовало, как примитивный наркоз» [Фрай 2017, 610]) выполняет в тексте двойную функцию: с одной стороны, служит двигателем сюжета, с другой стороны, подчеркивает чуждость самого
Макса миру Exo: «Киба Аццах попятился к окну.
- Ты мертвый? - спросил он с таким интересом, словно на свете не было ничего важнее, чем информация о состоянии моего организма. В этом городе живые не могут спорить с мертвыми, значит, ты мертвый» [Фрай 2017, 610].
Усиливающаяся влюбленность сэра Макса в леди Меламори сначала заставляет ее являться к нему в виде некоего суккуба («Мой сладкий сон снова быт со мной. Меламори появилась в оконном проеме» [Фрай 2017, 425]), а потом становится причиной невольной телепортации последней в спальню героя, т.е. сон становится ключом к материализации мечты:
«- Это хуже, чем свинство, Макс! - взвизгнула живая и настоящая леди Меламори. <...>
- Я ничего такого специального не делал. Просто ты мне снилась» [Фрай 2017, 425-426].
Сон - лучшее лекарство от душевного потрясения: «Я бы на вашем месте отправился сейчас к какой-нибудь подруге... или, на худой конец, к кому-то из родственников. Поднимете их с постели, расскажете о своем несчастье. Они будут поить вас всякими зельями, в конце концов, вы устанете от их глупых утешений и заснете. Все это будет ужасно, но... В общем, есть такой способ не сойти с ума» [Фрай 2017, 317].
В повести «Путешествие в Кеттари» имеет место корреляция сон = созидание; сэр Макс сначала видит во сне город с канатной дорогой и расположенный рядом парк, а потом сам их создает внутри художественной реальности мира Ехо: «Ты не дурак стряпать Миры, парень! Хотелось бы мне проделывать это с такой же легкостью. Правда, ты не слишком соображал, что творил, поэтому лишился львиной доли удовольствия <...> Раньше Кеттари окружала пустота, а теперь по соседству с нами вырос чудесный город. <.. .> Да еще и роскошный парк в придачу. Ты гений, парень» [Фрай 2017, 582-583].
Номинатив сон приравнен М. Фраем к номинативу обучение; «Вы что, научили меня варить камру, пока я спал? - До меня начало доходить» [Фрай 2017, 366].
В художественном мире «Чужака» номинатив сон также оказывается идентичным и номинативу инициация; друзья и коллеги сэра Макса обучают его во сне новым магическим умением, т.е. герой в некотором смысле уподобляется шаману, который во сне / трансе встречается с представителями потустороннего мира. Отметим, что «сонная» шаманская инициация представлена двумя типами: революционная и эволюционная. Революционную инициацию проходит Шурф Лонли-Локли, а эволюционную - сам Макс. Далее проиллюстрируем данный постулат.
-
1. Как мы уже говорили ранее, прежде чем попасть в мир Ехо, Макс видит его во сне. Эти сновидения, согласно М. Элиаде, соответствуют первому этапу на пути обретения шаманского статуса - «экстатическому наставлению» [Элиаде 2000, 14]. По прошествии нескольких лет будущий начальник сэра Макса переносит его в мир Ехо, т.е. наступает второй
этап - «традиционный» [Элиаде 2000, 14], когда старый шаман или представитель мира духов (а сэр Джуффин Халли является и тем, и другим одновременно) дает инициируемому ряд наставлений (обучение шаманским техникам, пересказ мифов, раскрытие имен духов и т.п.).
-
2. Магический сон насылается на другого персонажа «Чужака», Шурфа Лонли-Локли, за совершенные им преступления: он был послушником магического Ордена Дырявой Чаши, но захотел стать самым могущественным колдуном: «Поэтому однажды выпил воду из всех аквариумов, за которыми должен бы присматривать <...> Неосторожный молодой человек обрел огромную силу. <.. > Вот только он был не в состоянии с ней справиться <...> Моя память пока не способна восстановить большую часть того, что этот глупый юноша делал после того, как спешно покинул резиденцию своего Ордена. Но в городе меня прозвали Безумным Рыбником» [Фрай 2017, 520-521].
Мы обозначили описанный тип инициации как эволюционный, т.к. сэр Макс, получающий во сне новые магические умения и навыки, обретает их «естественным» образом, не испытывая никакого дискомфорта, т.е. при пробуждении он может даже не осознавать изменения, а о произошедшем с ним ему сообщают коллеги.
Новое прозвище героя, подчеркивающее его неспособность здраво оценивать происходящее, указывает на «кризис, временное нарушение психического равновесия будущего шамана» [Элиаде 2000, 2].
Далее герой убивает двух магов и отрывает им руки. Мертвецы начинают его преследовать. Ему грозит сон-наказание, приравненный к небытию, несуществованию, поэтому герой пытается полностью отказаться от сна; «Безумного Рыбника остановили два мертвеца, хозяева присвоенных мною рук. В первую же ночь они пришли в мой сон. <...> Они собрались поместить меня где-то между жизнью и смертью, в область бесконечного мучительного умирания. <...> Тогда я решил бодрствовать столько, сколько смогу, а потом убить себя, чтобы ускользнуть от мести мертвых Магистров. Мне удалось прожить без сна около двух лет» [Фрай 2017, 522].
Далее героя ждет сон-избавление, который уподобляется временному умиранию, т.е. инициируемый шаман должен покинуть мир живых, чтобы вернуться в него в новом качестве:
«Вместо того чтобы убивать, сэр Джуффин меня усыпил. <...> Джуффин швырнул меня в объятия мертвецов, истосковавшихся по мести. А потом была целая вечность слабости и боли <...> [Джуффин] вытащил меня из этого кошмара. Разбудил, привел в чувство и объяснил, что у меня есть только один выход <.. >.
Эти двое [мертвецы] искали Безумного Рыбника. Мне нужно было стать кем-то другим. <.. >
Поэтому сэр Джуффин поместил меня в некоторое удивительное место, <.. > показал несколько дыхательных упражнений <...>. Помню, что в том странном месте я не мог заниматься ничем, кроме этих упражнений. <.. > Я и сам не заме-

тил, как умер Безумный Рыбник. <.. > А потом пришел тот, кто известен тебе под именем Шурфа Лонли-Локли. У меня нет никаких претензий к своей новой личности. Она не мешает сосредоточиться на действительно важных вещах» [Фрай 2017, 523-524].
Очевидно, что в случае с персонажем Лонли-Локли «сон указывает на нравственный потенциал личности, реальность же есть искажение нравственной сути героя. Сон, таким образом, в данной ситуации можно рассматривать как возвращение к нравственному состоянию человека» [Че-порнюк].
Как мы уже успели заметить, специфической чертой повестей М. Фрая является расширение семантики номинатива сон; согласно авторской концепции, это не только отдых, но и время для работы: обмена информации между коллегами, обучения новым приемам магии и проч. Таким образом, очевидно, что в анализируемом сборнике наблюдается не прямое воспроизведение, а новое переосмысление онирической традиции фольклора. Это обусловлено фэнтезийной ориентированностью повестей.
Вместе с тем, несмотря на максимально правдоподобно выстроенную фэнтезийную реальность, жизнь Макса в мире Ехо продолжает отчасти напоминать ирреальное сновидение: жители Ехо приветствуют друг друга, как будто постоянно находятся в состоянии сна («Вижу тебя, как наяву!» [Фрай 2017, 24]), герой почти не рефлексирует по поводу покинутой им реальности планеты Земля, не вспоминает ни своих близких, ни произошедших с ним ранее событий, не называет свою фамилию, ссылаясь на то, что у него ее вообще нет; более того, даже сам неосознанно создает новые миры, ранее увиденные им во сне.
Список литературы Онейросфера как элемент поэтики повестей М. Фрая (на примере сборника "Чужак")
- Дынник М. Сон, как литературный прием//Литературная энциклопедия: словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 2. М.; Л., 1925. Стб. 641-649.
- Нагорная Н.А. Онейросфера в русской прозе ХХ века. Модернизм, постмодернизм. М., 2004.
- Панкратова М.Н. Проблема взаимодействия онирической мотифемы и постмодернистского логоцентризма//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 8. С. 56-58.
- Савельева В.В. Художественная гипнология и онейропоэтика русских писателей. Алматы, 2013.
- Толстой Н.И. Славянские народные толкования снов и их мифологическая основа//Сон семиотическое окно. Сновидение и событие. Сновидение и искусство. Сновидение и текст. XXVI-е Випперовские чтения. М., 1993. С. 80-93.
- Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998.
- Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. в контексте традиции). М., 2013.
- Фрай М. Чужак. М., 2017. 234
- Чепорнюк Е.Н. Сны и видения как формы субъективного времени в романах В.М. Шукшина. URL.: http://www.host2k.ru/library/sni-i-videniya-kak-formisubektivnogo-vremeni-v-romanah-shukshina.html (дата обращения 27.08.2017).
- Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого: от Хаоса к Космосу. СПб., 2012.
- Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. М., 2000.