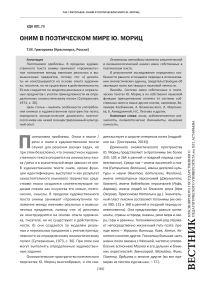Оним в поэтическом мире Ю. Мориц
Автор: Григорьева Татьяна Михайловна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В пределах художественного текста онимы занимают «промежуточное положение между именами реальных и вымышленных предметов, потому что: а) денотаты их конструируются на основе опыта художника, писателя, но не существуют в действительности; б) они создаются по моделям реальных и нереальных предметов с учетом принадлежности их определенному ономастическому полю» [Суперанская, 1973, с. 30]. Цель статьи - выявить особенности употребления онимов в художественном пространстве поэта; определить ономастические доминанты поэтического мира как некий сконцентрированный культурный опыт. Основными методами являются семантический и ономасиологический анализ имен собственных в поэтическом тексте. В результате исследования определены особенности раннего и позднего периода в использовании ономастических единиц, свидетельствующие об эволюции поэта как творца и языковой личности. Выводы. Система имен собственных в поэтических текстах Ю. Мориц в их собственно языковой функции принципиально отлична от системы собственных имен в языке других поэтов, например, Велемира Хлебникова, А. Вознесенского, Л. Мартынова, Б. Ахмадулиной, Н.С. Лескова и других.
Оним, художественная значимость, ономастические доминанты, языковая личность
Короткий адрес: https://sciup.org/144161722
IDR: 144161722 | УДК: 801.73
Текст научной статьи Оним в поэтическом мире Ю. Мориц
детельствует о широте интересов поэта (подробнее см.: [Григорьева, 2016]).
Доминанту ономастического пространства Ю. Мориц представляют антропонимы (их более 350: 105 и 264 в ранний и поздний период соответственно). Среди них - имена писателей и поэтов ( Евтушенко, Волошин ), имена деятелей культуры и науки ( Ньютон, Ботичелли, Феллини ), имена литературных персонажей ( Джульетта, Гамлет ), имена библейских персонажей ( Руфь, Авраам ), имена людей из близкого круга ( Ира Озерова, Тарасенкова Наталья и др.). Значительный пласт лексики составляют топонимы (их около 300: 115 и 168 в ранний и поздний период соответственно). Они представляют разные континенты, страны и города, океаны, реки моря и озе-
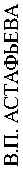
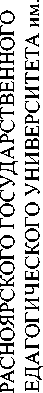
ра, горы и равнины. Топонимический ряд отражает непосредственно жизненный путь поэта: прежде всего – Украина : Винница, Киев, Хотин, Ко-нотоп и многие другие. Поскольку большая часть жизни поэта связана с Москвой, частотно употребление астионима Москва и его дальних и ближних окрестностей: Звенигород , Можайка , Фили , Полянка , Ордынка и многие другие (во все примерах из текстов курсив наш. – Т.Г. ).

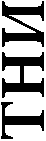
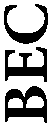
В одном из интервью 2004 года («Газета». 31 мая) Ю. Мориц сказала: «Моим современником был постоянно Пушкин, ближайшими спутниками - Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями – Андрей Платонов и Томас Манн». В интервью 2012 года (Российская газета. 04.09) она признавалась, что обсуждает «вековые вопросы» с Пушкиным, Лермонтовым, Львом Толстым, Андреем Платоновым, Данте, Шекспиром, Овидием. К своей поэтической среде она относит Блока, Хлебникова, Гомера, Данте, царя Соломона (автора «Песни Песней») и «поэтов греческой древности». И все они, вернее, их имена занимают определенное место в ее поэтическом языке.
Цель данного исследования – выявить особенности употребления онимов в художественном пространстве поэта; определить ономастические доминанты поэтического мира как некий сконцентрированный культурный опыт.
Основные методы - семантический и ономасиологический анализ имен собственных в поэтическом тексте.
Результаты исследования . С языковой личностью Юнны Мориц связаны имена собственные Эстонии, поскольку немало дней проведено ею в городах этой республики / страны:
Вдоль улиц Длинная Нога /
Или Короткая Нога
Шатайся двадцать тысяч лет, – / И за углом – кофейня.
(«Эстонская песня»)
(Улицы Длинная Нога и Короткая Нога расположены в центре столицы Эстонии.)
Названные онимы, представляющие разнообразный, многовекторный ономастический мир поэта, употреблены в их номинативной функции. Однако, помимо этого, они используются как средство художественной выразительности. Например, входят в состав сравнений как средство актуализации смысла:
Кустарник, поле и холмы /
Желтее кожи Гайаваты.
(«Гайвата»)
* * *
Но у стрелочника есть на этот счет / Философия, и он фонарь несет,
Глядя в ночь невозмутимо, как Конфуций .
(«Ночной поезд»)
Известны случаи, когда антропоним выполняет темпоральную функцию: эпоха определяется через антропоним:
Эта, может быть, ворона, /
Что ворует со стола,
Знала, может быть, Ньютона , /
Когда птенчиком была.
(«Ворона»)
Антропонимы могут быть употреблены метонимически:
И при разделе от квартиры той / Достались мне Державин , том шестой,
И ужас перед суетностью жадной.
(«След в море»).
Онимы могут становиться основой для аллитерации, придавая тексту особенную экспрессию:
Он решает взять л и Хл ою /
(На иго л ку с хл ороформом)
Или греческую х вою – /
Как праматерь х войным формам.
Связанные с распадом Советского Союза события нашли отражение в поэтическом оно-мастиконе автора: возникают имена новых реалий новой эпохи, на первый план выходят новые лица, меняется географическое пространство. Стоит отметить, что в ономастиконе предшествующего периода не обнаружено особых маркеров советской эпохи, однако для постсоветского периода характерны критическое восприятие советской действительности и, как следствие, онимы, отражающие эту действительность ( Ленин, Сталин, Гитлер, Шаламов, Солженицын и др.).
В раннем периоде большинство онимов нейтральны по отношению к историческому времени. Указывающих на связь с советской действительностью онимов не обнаружено, и это может служить свидетельством погруженности поэта в свой внутренний мир. Об этом свидетельствуют имена мест детства и юности (Украина, Киев, Подол), основных мест жительства (Эстония, Москва) и близкого окружения автора, не известных читателю (Ира Озерова, Наталья Тарасенкова, Ундер, Альвер):
Иру Озерову жаль – /
До весны не дожила,
Рано жизнь ее сожгла.
(«Памяти поэтессы»)
События нового времени потребовали включения в текст новых имен: Баренцево море, Польша, Белград , Глюкоза, День влюбленных , Буш и др. Кроме того, для позднего периода характерен такой прием, как трансформация онима в апеллятив ( фарадейство, кавказ, содомщик), создание противоположного смысла путем присоединения дополнительного компонента к ониму ( Антиленин, Антисталин и др . ).
Обращает на себя внимание прием оними-зации апеллятива, то есть замены инициальной строчной буквы ее прописным эквивалентом. Следствием этого становятся отдельные апел-лятивы, выступающие в роли онимов. Это Водяной , Время , Командор , Леший , Лира , Лирика , Муза , Отче Город , Поэзия , Русалка - в раннем творчестве, где доминирующим вступает Муза . И гораздо большее их число в поздний период, среди которых Вооруженные Силы Слов , Ворон , Время Бочки , Гармония , Гениальный Бандит , Граница , Жабка , Жизнь , Кролик , Мгновенье , Музей Доносов , Невыливайка , Нечто , Нигдеш-ность , Никуда , Одиночество , Поэт , Поэтка , Рондо , Светлая Тень , Слово , Смерть , Сокровища , Сопротивленье , Страх , Существо , Творец , Ужас , Читатель , Ягненок и многие другие. Хотя этот прием в литературе не является новым (см., например: [Григорьев, 1976; Григорьева, 2014]), но в языке Ю. Мориц он обретает особенную актуальность.
Среди онимизированных апеллятивов старшего периода наиболее распространенным является слово Читатель , к которому автор относится с величайшим почтением:
Сто спасиб, драгоценный Читатель , / Ты – отрада, награда моя,
Мой свидетель и мой не предатель / На кострах клеветы и вранья.
Сто спасиб, современник чудесный, /
Не отступник, не льстец и не трус, Мой Читатель , ты – дар мой небесный, /
Свет любви необузданных муз, –
Не обузданных выгодным пеньем, /
Не обузданных задним умом, Грубой силы общественным мненьем /
И вещественной славы ярмом.
Сто спасиб, драгоценный Читатель , /
Я – глотатель
(сто раз повторим!), Твоего кислорода глотатель, /
Кислорода, который незрим.
(«Сто спасиб»)
***
… Не вернусь я теперь ниоткуда, /
Потому что осталась я здесь
Наглядеться на русское чудо, /
На его самоедскую бесь,
На его механизмы презренья /
К никуда не удравшей стране,
Где по воздуху стихотворенья /
Мой Читатель гуляет ко мне.
Он – поэтской Луны обитатель, /
Обладатель поэтской струны, Никуда не удравший Читатель /
Никуда не удравшей страны.
Эта особенность поэтического языка Ю. Мориц не осталась незамеченной в среде ее критиков-почитателей: «Юнна Мориц - единственный русский поэт, который сегодня пишет слово Читатель с большой буквы и которому – платит “люблями” этот Читатель, очень недетский и очень детский, от 5-ти до 500 лет» (Игорь Вирабов. Собода Чарли Чаплина. Российская газета. № 5875. 04.09.2012).
Великая благодарность к своему читателю звучит в ее обращении:
Драгоценный Читатель , мой праздник и чистая радость! Благодарю за светлый поток поздравлений в мой Деньрождень, за кислород любви к русской поэзии, за пожелания долгих лет жизни. С глубоко благодарным поклоном. Ваша Поэтка . 05.06.2013 г.
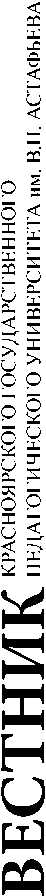
* * *
Нельзя пройти мимо слова Поэтка , которое является довольно распространенным:
Всего прекрасней для Поэтки снегопады, Цветенье вишен, яблонь и сирени <…>
И не попасть потом под времени колёса,
И на волне свободомыслящего носа
Не быть Поэткой невозможно в той стране.
(«Поэтская страна»)
* * *
Любить – до чего приятно /
Этих прелестных крошек!
В отличие от поэтов, /
Хороших и очень хороших.
А я – совсем не хорошенькая /
И, вообще, Поэтка .
Поэтка – и больше некому / Носить это имя, детка!.. * * *
Ни славы блеск, ни бешеный успех /
Не внятны мне как зажигательные средства.
Поэтка , я поэтствую для тех, /
Кто мне, живьем, люблями платит за поэтство.
(«Поэтка»)
Именно это слово Поэтка стало заглавием второго раздела поэтического сборника «По закону – привет почтальону»:
Вам хочется лирики, теплой как центральное отопление
С батареями, которые пахнут ароматами Браун Евы?..
Но Поэтка с люблевым читателем уходит в Сопротивление ,
Где совсем другие напевы.
(«Пункт обмена»)
Здесь очевидно, что, кроме онимизирован-ного апеллятива Поэтка , онимизацией апелляти-ва сопротивление автор утверждает свое отличное от других поэтических «я», далекое от банальности. Такое самоименование поэта стало ключевым во многих посвященных ей публикациях:
«Юнна Мориц – большой поэт. Хотя она сама себя в последнее время шутливо называет Поэткой » (А. Губина. Не бывает напрасным прекрасное. Труд-7. 2007.06.02).
«На вопросы, кем является – диссидентом, оппозиционером, критиком режима и проч. и проч., – она отвечает одно: что является поэтом в чистом виде, и только поэтом. И даже Поэткой – изобретенное ею слово» (О. Кучкина. Поэтка, которой платят люблями. Комсомольская правда. 2007.06.02) (подробнее об этой особенности поэтического языка см.: [Григорьева, 2014]). При этом нельзя не заметить, что слово Поэтка не есть изобретение Ю. Мориц.
«Исторический словарь галлицизмов русского языка» дает его толкование с пометой пренебр. – женщина-поэт – и иллюстрирует это значение таким примером из поэмы А.И. Тургенева «Параша»:
Я не люблю восторженных девиц… / По деревням встречаешь их нередко;
Я не люблю их толстых, бледных лиц, /
Иная же - помилуй бог - поэтка .
В начале ХХ века Н. Львова в стихотворении «Почему я со страхом жду от Вас признания…» использует это слово, как будто уже лишенное отрицательного значения, в противопоставлении «женщина – поэт» для самоименования:
Воспоминанья – осенняя ветка… / Пожелтелые листья так жутко шуршат…
Ах, разве я женщина? Я только поэтка , / Как меня назвал
Ваш насмешливый брат.
Толковый словарь Д.Н. Ушакова однако (середина ХХ в.) определяет его как жен. (разг. редк.), то же, что поэтесса, и приводит тот же пример из А.И. Тургенева, но без ярко выраженной отрицательной составляющей. К концу ХХ века это слово потеряло отрицательную сему. Об этом свидетельствует посвященная Н. Горбаневской книга Л. Улицкой «Поэтка. Книга о памяти». Основанием к такому названию послужили слова самой Горбаневской о том, что ее лучше называть не «поэт» и не «поэтесса», что ей больше подходит польское слово: поэтка. Польский журналист Петр Минцер свидетельствует об этом так: «Когда-то я спросил у тебя, как тебя лучше называть: поэтом или поэтессой? И ты от- ветила, что тебе больше подходит польское слово “поэтка”. Это по-польски поэтесса. И вот это оно действительно ей очень идет. Эта маленькая, живая, кудрявая, подвижная, поэтка - правильное слово для нее» (Программа «Книжное казино» на «Эхо Москвы» 23.11.2014).
Характерной чертой позднего периода творчества Ю. Мориц можно назвать не только они-мизицию апеллятивов, но и создание собственных индивидуально-авторских «онимов», свидетельствующих об отсутствии ориентиров во времени.
– Вы где сегодня?.. / – А нигде.
Места моих присутствий – в Нигдешности и в Никуде.
(«Какое счастье – в воду лечь…»)
Безусловно, не следует полагать, что в результате приема онимизации возникает оним как таковой, но прописная буква воспринимается как некий сигнал к объединению слова с именем собственным. Помимо этого, графическое противопоставление прописная / строчная позволяет актуализировать смысл слова, создает его потенциальную напряженность, «собственное ономастическое сияние», привносит новое семантическое наполнение и оживляет графическую оболочку слова. Таким образом, оно приобретает чрезвычайную значимость в постижении глубинного смысла текста. Прописная буква как знак собственного имени и олицетворения восходит к традициям народного творчества и используется в поэтическом творчестве как средство художественной выразительности: Царевич , Царица , Царь-Парус , Гусляр , Чудо-Птица , Не то Ангел, не то Воин какой ; Вихрь-Девица , Жар-Девица , Зверь-Солдатка ; Пуще Дева-Царь хохочет ; Дева-Царь , Царь-Девицын , Царь-Буря и др. в поэме М. Цветаевой «Царь-Девица» (см. об этом: [Ревзина 1989, с. 196]).
И еще одна особенность – капитализация всех графических компонентов слова, что, как и в случае онимизации, придает слову особенную значимость:
То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!
То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ! То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,
Морда фашизма, фашизма пылающий ад. <…>
То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!
То, что случилось в Одессе, фашизма успех, Это – фашизма концерт и фашизма гастроль, Хохот фашизма, который – свободы король! <…>
Морда фашизма, фашизма пылающий ад – Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад!
Выводы. Эти не претендующие на полноту наблюдения над ономастической составляющей в языке Ю. Мориц позволяют сделать вывод о том, что онимы являют собой большое разнообразие и значительное их число выступает в своей номинативной функции, этим характеризуя автора как неординарную языковую личность, раскрывают ее широкий культурный горизонт, которым проникается читатель и вместе с тем приобщается к нему. Именно они служат созданию индивидуально-авторской ономастической модели, выражают своеобразную полифонию ономастического пространства и дают некоторые представления о времени и языке русской поэтической речи на рубеже XX–XXI столетий. Причем система имен собственных у Ю. Мориц в их собственно языковой функции принципиально отлична от системы собственных имен в языке других поэтов (см., например, систему ономастической модели мира в языке Ве-лемира Хлебникова [Григорьев, 1976] и А. Вознесенского [Некрасова, 1976]; Л. Мартынова и Б. Ахмадулиной [Григорьева, 1991]; Н.С. Лескова [Алешина, 2000], И.А. Бунина [Леонтьев, Манандян, 2006] и И. Анненского [Григорьева, 2014]).
Помимо этого, онимы в языке Ю. Мориц нагружены определенным поэтическим смыслом и выступают как средство художественной образности, как результат самостоятельного языкового творчества: автор не ограничивается использованием известного в языке имени, но преобразует его в соответствии с эстетическими задачами, проявляет ономастическое творчество, создавая такие имена, которые выражают его художественные намерения и необходимы в создании глубинного смысла художественного целого.
Список литературы Оним в поэтическом мире Ю. Мориц
- Алешина Л.В. Ономастическое пространство идиостиля Н.С. Лескова (на материале инновационных онимов и деонимов). Орел, 2000.
- Григорьев В.П. Ономастика Велемира Хлебникова (индивидуальная поэтическая норма) // Ономастика и норма. М., 1976. С. 181-200.
- Григорьева Т.М. Имя собственное в поэтическом тексте // Функционирование языковых единиц в текстах разных жанров: межвуз. сб. науч. трудов. Красноярск, 1991. С. 45-53.
- Григорьева Т.М. Поэтический мир Ю. Мориц: ономастические наблюдения // Экология языка и коммуникативная практика. 2016. № 2. С. 259-269.
- Григорьева Т.М. Язык И. Анненского: ономастические наблюдения // Культурно-образовательное пространство: новые задачи - новые решения: материалы Всерос. (с международным участием) науч. конференции 18-10 февр. 2014 г. Красноярск, 2014. С. 15-20.