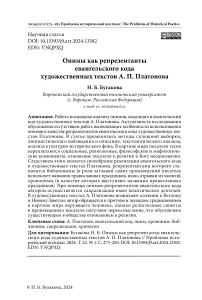Онимы как репрезентанты евангельского кода художественных текстов А. П. Платонова
Автор: Бугакова Н.Б.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена анализу онимов, входящих в евангельский код художественных текстов А. Платонова. Актуальность исследования обусловлена отсутствием работ, выявляющих особенности использования онимов в качестве репрезентантов евангельского кода художественных текстов Платонова. В статье применялись методы сплошной выборки, лингвистического наблюдения и описания, текстологического анализа, анализа культурно-исторического фона. В картине мира писателя тесно переплетаются социальные, религиозные, философские и мифологические компоненты, отношение писателя к религии и Богу неоднозначно. Следствием этого является своеобразие реализации евангельского кода в художественных текстах Платонова, репрезентантами которого становятся библионимы (в роли заглавий своих произведений писатель использует названия православных праздников, икон, отрывки из молитв); хрононимы (в качестве которых выступают названия православных праздников). При помощи онимов-репрезентантов евангельского кода автором осуществляется сакрализация имен политических деятелей. В художественных текстах А. Платонова возникают аллюзии к Ветхому и Новому Заветам: автор обращается к притчам и легендам, традиционным в картине мира верующего человека, однако религиозные сюжеты в произведениях писателя получают переосмысление, что обусловлено существующим в обществе отношением к религии.
. платонов, евангельский код, оним, хрононим, библионим, сакрализация, хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/147243493
IDR: 147243493 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13302
Текст научной статьи Онимы как репрезентанты евангельского кода художественных текстов А. П. Платонова
Изучение творчества Андрея Платонова с точки зрения реализации в нем христианской традиции актуально для ученых различных сфер, что, на наш взгляд, обусловлено неоднозначным отношением писателя к религии. В разное время свои работы этой теме посвящали [Гурвич], [Киселев], [Антонова, 1995], [Спиридонова, 1994, 1998, 2012], [Любушкина], [Заваркина], [Проскурина] и др. Исследователи отмечали, в частности, что в основе сознания писателя находятся категории православной догматики [Антонова, 1995: 39], усвоенные им еще в детстве. На это обращает внимание Е. Н. Проскурина, которая считает, что «детский опыт сохранился в активной памяти писателя, о чем свидетельствует поэтика платоновских произведений, а также любовного эпистолярия, прошитых аллюзиями на Священное Писание» [Проскурина: 76].
Обращаясь к евангельскому коду творчества А. Платонова, отметим работы И. А. Спиридоновой, которые посвящены христианским и антихристианским тенденциям произведений писателя 1910–1920-х гг. [Спиридонова, 1994], функционированию предметов религиозного культа в военных рассказах писателя [Спиридонова, 2012], рассмотрению мотива сиротства в «Чевенгуре» А. Платонова в свете христианской традиции [Спиридонова, 1998]. В своих исследованиях И. А. Спиридонова пишет о том, что религиозность А. Платонова — это «религиозность особого толка. Она не укладывается в рамки определенного вероучения. "Верую" Платонова, являющееся важнейшей составляющей его мировоззрения, в ходе творческой эволюции наполнялось разным, подчас драматически не стыкующимся между собой содержанием. Но его корнем навсегда осталась вера отцов — православие. Это задано родиной, народом, судьбой» [Спиридонова, 1994: 349]. Е. И. Колесникова, исследовавшая, в частности, духовные контексты творчества Платонова, считает, что «метафористику» произведений писателя обусловила «изначальная христианская данность, в которой воспитывался будущий художник» [Колесникова: 34]. Р. А. Поддубцев считает, что, несмотря на активное использование писателем библейской фразеологии и символики, образ Христа у него принципиально отличается от евангельского [Поддубцев: 60]. На это указывала и И. А. Спиридонова, по мнению которой, в публицистике Платонова «Христос постепенно вообще утрачивает божественную сущность» [Спиридонова, 1994: 353]. Отметим безусловное влияние на сознание писателя философа Ф. Ницше, который в трактате «Так говорил Заратустра» писал: «Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек»1. Тема умершего Бога начинает звучать в произведениях Платонова уже в 1910-х гг., а в записных книжках писателя можно увидеть следующие комментарии: «Бог есть умерший человек»2.
Задачей предлагаемого исследования является рассмотрение случаев употребления онимов в качестве репрезентантов евангельского кода в художественных текстах А. Платонова. Под кодом будем понимать, вслед за Ю. М. Лотманом, «представление о структуре только что созданной, искусственной и введенной мгновенной договоренностью» [Лотман: 15]. Р. Барт предлагал употреблять термин «код» в отношении «ассоциативных полей», «сверхтекстовых организаций значений» [Барт: 455]. По мнению ученого, «код, как мы его понимаем, принадлежит главным образом к сфере культуры: коды — это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного » [Барт: 456]. Понятие «евангельский код» определяет характерные для художественного пространства писателя черты, заключающиеся в обращении к евангельским сюжетам.
Аллюзии к христианским основам сознания в текстах произведений А. Платонова более отчетливо, по мнению Е. Н. Проскуриной, начинают проявляться во второй половине 1920-х гг.: «В качестве точки отсчета можно определить повесть "Сокровенный человек" (1927), в названии которой скрыта цитата из Первого Послания апостола Петра: "сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа" (1 Пет. 3:4)» [Проскурина: 79]. Отметим, что употребление в качестве биб-лионимов (названий произведений) элементов евангельского кода — характерный для текстов А. Платонова художественный прием: автор использует в качестве заглавий своих произведений названия православных праздников, икон, цитаты из священных книг и молитв (см.: «Преображение», «Взыскание погибших», «Христос и мы», «Да святится имя твое», «Новое евангелие»). Так, например, загл авие статьи «Преображение», опубликованной
1 мая 1920 г. в газете «Воронежская коммуна», отсылает читателя к празднику Преображения Господня (второе название — Яблочный Спас). Суть праздника заключается в том, что Преображение показывает: в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Произведение предваряется эпиграфом «Земля была темна и неустроена», который автор снабжает подписью «Из древней книги»3. Этот эпиграф представляет собой несколько переосмысленную цитату из Библии: «Земля бе невидима и неустроена» (Быт. 1:2) (см.: [Антонова, 2004: 319]). Очевидно, что писатель был знаком с христианским учением. Это подтверждается употреблением в качестве библионимов названия иконы («Взыскание погибших») или цитаты из самой, пожалуй, популярной молитвы у православных — Отче наш («Да святится имя Твое»).
Актуализация евангельского кода в художественных текстах А. Платонова осуществляется также посредством употребления библеизмов в качестве точек отсчета времени, поскольку, по мнению писателя, «каждый день года имеет свой характер. Раньше это было: Ильин день, Иван Купала и т. д. (естеств<енные>, религиозные события сочетались с природой, с традицией, с бытом, с урожаем)»4. Так, героиня романа «Чевенгур», Марфа Дванова, приютившая внезапно осиротевшего мальчика Сашу, ругая своего мужа за лень и бездействие, говорит: «Пшена-то до Рождества не хватит…» (курсив наш. — Н. Б .)5. Героиня по принятой в религиозной среде традиции меряет время православными праздниками, среди которых Рождество является одним из важнейших. Упоминание Рождества как точки отсчета времени встречается также в повести «Епифанские шлюзы»:
«Загнанный скукой и одиночеством, один из немцев, Петер Форх, женился Рождеством на епифанской боярышне — Ксении Тарасовне Р одионовой…»6.
Марфа Дванова, продолжая адресованную мужу речь о том, что семья голодает, характеризует сложившуюся ситуацию, употребляя лексему Спас , отнесенную нами к разряду религиозной лексики и функционирующую в тексте в качестве хрононима: «…хлеба со Спаса не видим!» (курсив наш. — Н. Б .)7. Известно, что лексемой Спас , образованной от лексемы Спаситель (под этим именованием православные понимают Иисуса Христа), обозначаются народные православные праздники, приходящиеся на самое урожайное, плодородное время года — август. Именно с первого, Медового Спаса начиналась выкачка меда, разрешалось употреблять в пищу овощи нового урожая. На последний, Хлебный Спас, приходящийся на конец Успенского поста, выпекали хлеб из муки нового урожая.
В качестве хрононима в романе употреблена лексема Пасха :
«Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца»8.
Пасха — «Светлое Христово Воскресение и самый главный из церковных праздников; его также называют "Праздником праздников и Торжеством из торжеств". В день Пасхи Православная Церковь вспоминает Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа на третий день после того, как Он был рас-пят»9. В традиции православных верующих это день большой радости. Обратим внимание, что у А. Платонова праздник Пасхи приобретает прямо противоположное традиционному для национальной картины мира значение. Для писателя Пасха — это не праздник Воскресения, символизирующий радость жизни, а напротив — время умирать. Здесь предположим проводимую автором параллель между человеком и Богом и вспомним, что человек в картине мира А. Платонова замещает Бога. Поэтому, очевидно, писатель обращается к евангельскому сюжету, в соответствии с которым Бог был распят в пятницу. Захар Павлович готовит гроб приемному сыну перед Пасхой, что воспроизводи т хронологию евангельского сюжета.
Реализация евангельского кода осуществляется при упоминании социалистических политических деятелей; в таких случаях происходит сакрализация имен этих персонажей, в результате чего атеистическое социальное устройство приобретает определенное сходство с религиозным устройством. Так, например, в реплике одного из персонажей романа «Чевенгур» («Ленин взял, Ленин и дал»10) содержится переосмысленная писателем аллюзия к ветхозаветному «Господь дал, Господь и взял» (Иов. 1:21); вождь мирового пролетариата сравнивается с Богом, только поступает не как Бог, а наоборот. Таким образом писатель противопоставляет религиозное устройство социалистическому. Полагаем, это обусловлено стремлением писателя продемонстрировать формируемое советской властью отношение к религии, когда ведущим был лозунг: «Религия — опиум для народа». Подобной точки зрения придерживается герой повести «Сокровенный человек», который на вопрос экзаменатора о том, что такое религия, отвечает: «Предрассудок Карла Маркса и народный самогон»11. Здесь нельзя не отметить противоречие, возникающее между библионимом повести, представляющим собой цитату из Первого послания апостола Петра (см. выше), и главным персонажем повести, который, называя религию предрассудком, демонстрирует ее неприятие.
Более поздние произведения А. Платонова также включают обращения к евангельскому коду. Так, например, рассказ «Юшка» содержит аллюзии к Новому Завету: эпизод, когда дети побивают Юшку камнями, отсылает читателя к истории с грешницей, которую хотели подвергнуть казни за прелюбодеяние, а Иисус Христос сказал: «…кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). Однако Юшка не совершил никакого греха, напротив, его бьют, скорее, потому, что он ничего «не отвечал детям, не обижался на них»:
«Дети удивля лись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них»12.
Такое поведение персонажа соответствует одному из православных заветов:
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39).
В сюжете рассказа новозаветная легенда получает переосмысление.
В картине мира А. Платонова тесно переплетаются социальные, религиозные, философские и мифологические компоненты, что находит отражение в создаваемых автором произведениях. Онимы выступают репрезентантами евангельского кода в творчестве А. Платонова в случае использования в роли заглавий произведений названий христианских праздников, икон, отрывков из молитв, а также как аллюзии к Ветхому и Новому Заветам. Отметим употребление писателем названий православных праздников в качестве хрононимов, сакрализацию имен политических деятелей. Обращение А. Платонова к евангельскому коду обусловлено народной традицией и способствует погружению читателя в создаваемый автором мир образов.
Список литературы Онимы как репрезентанты евангельского кода художественных текстов А. П. Платонова
- Антонова Е. «Безвестное и тайное премудрости…» (догматическое сознание в творчестве А. Платонова) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: Наследие, 1995. Вып. 2. С. 39–53.
- Антонова Е. Комментарии // Платонов А. П. Сочинения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. Т. 1: 1918–1927. Кн. 2: статьи. С. 319.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Гурвич А. Андрей Платонов // Красная новь. 1937. № 10. С. 195–233.
- Заваркина М. В. Сюжет «испытания веры» в повести А. Платонова «Джан» // Проблемы исторической поэтики. 2013. Вып. 11. С. 427–441 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1577186736.pdf (01.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2013.395
- Киселев А. Одухотворение мира // Молодой коммунист. 1989. № 11. С. 78–85.
- Колесникова Е. И. Духовные контексты творчества Платонова // Творчество Андрея Платонова: исследования и материалы. СПб.: Наука, 2004. Кн. 3 / отв. ред. Е. И. Колесникова; предисл. Е. И. Колесниковой. С. 34–60.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- Любушкина М. Библия в романе «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2005. Вып. 6. С. 354–360.
- Поддубцев Р. А. А. Платонов — писатель и публицист: ранние годы // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2012. № 2. С. 54–67 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.journ.msu.ru/books/2012/2/a-platonov-pisatel-i-publitsist-rannie-gody/ (01.08.2023).
- Проскурина Е. Н. Духовная традиция в наследии А. Платонова: между притяжением и отталкиванием // Культура и текст. 2016. № 1 (24). С. 75–92 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2016/04/proskurina_1_2016.pdf (01.08.2023).
- Спиридонова И. А. Христианские и антихристианские тенденции творчества Андрея Платонова 1910–1920-х годов // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 348–360 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2433 (01.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2433
- Спиридонова И. А. Мотив сиротства в «Чевенгуре» А. Платонова в свете христианской традиции // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 514–536 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2555 (01.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2555
- Спиридонова И. А. Икона в военных рассказах А. Платонова // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 343–350 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1458030820.pdf (01.08.2023) DOI: 10.15393/j9.art.2012.364