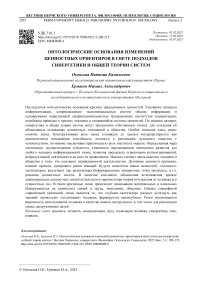Онтологические основания изменений ценностных ориентиров в свете подходов синергетики и общей теории систем
Автор: Оконская Н.К., Ермаков М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (62), 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследуются онтологические основания кризиса традиционных ценностей. Ускорение процесса информатизации, сопровождаемое экспоненциальным ростом объема информации и одновременно нарастающей дисфункциональностью традиционных институтов социализации, неизбежно приводит к кризису человека и сложившейся системы ценностей. По мнению авторов, синергетика и общая теория систем могут предложить собственную оптику для суждения об объективных основаниях ценностных отношений в обществе. Особое значение здесь имеет понятие хаоса. Конструктивная роль хаоса («порядок из хаоса») интерпретируется как диалектически понимаемая способность личности к реализации духовного единства с человечеством, поновому высвечивая практическую роль института морали. Определенная мера хаотизации, осуществляемая субъектом, становится определяющим принципом развития для любого человека информационной эпохи, позволяя преодолеть ограничения рутинизированной, репродуктивной деятельности во всех ее проявлениях. Именно элемент хаоса выводит человека и общество к тому, что называют инновационной деятельностью. Духовные ценности призваны, помимо прочего, купировать риски новаций. Будучи носителем новых ценностей, «личностихаотизаторы» выступают как реализаторы бифуркационных поворотных точек прогресса, в т.ч. развития ценностных систем. В качестве ключевого объяснения исчезновения прежде доминирующих ценностных связей используется марксистская теория отчуждения от человека его сущностных сил. В такие кризисные эпохи происходит девальвация материальных и идеальных (базирующихся на ценностях) связей в труде, мышлении, общении. Однако спецификой современной кризисной эпохи является то, что «субъектхаотизатор» рискует исчезнуть как таковой, происходит «технизация» человека, формируется квазисубъект. Резко увеличивается вероятность использования человека в качестве живого инструмента, в том числе для реализации самых деструктивных целей.
Ценность, личность, коммуникация, труд, технизация человека, синергетика, хаос, порядок
Короткий адрес: https://sciup.org/147250989
IDR: 147250989 | УДК: 316.3 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-2-208-215
Текст научной статьи Онтологические основания изменений ценностных ориентиров в свете подходов синергетики и общей теории систем
Оконская Н.К., Ермаков М.А. Онтологические основания изменений ценностных ориентиров в свете подходов синергетики и общей теории систем // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2025. Вып. 2. С. 208–215. EDN: MMMMWA
Received: 01.02.2025 Accepted: 15.06.2025
Теория ценностей развивается уже не одно столетие. Однако общепринятой парадигмы на этом направлении развития гуманитаристики, пожалуй, нет до сих пор. Одна из причин такого положения дел — высокий уровень абстрактности, глубоко скрытая внеопытная сущность ряда влиятельных аксиологических систем. Нельзя не учитывать, что «господство неясности» (по Ф. Бэкону) убивает истину больше, чем заблуждение. С другой стороны, является ли полное исключение такой «неясности» совместимым с функционированием и развитием собственно человеческих ценностных систем?
В известном смысле, все философские категории работают на улавливание ценностных оттенков бытия. Жизнь как ценность отлича- ется от физиологических и биологических процессов. Сознание как ценность отлично от психики животных. Человек как ценность понимается не как индивид — представитель вида, это целостность, сосредоточие всех ценностей, личность, несущая на себе все тяготы настоящего и будущего человечества. «Проблема рациональности, поставленная исторически, на основе как единичного носителя (человека и его высшей нервной деятельности), так и в целом общественных отношений и их материализации может быть решена через ценности и идеалы синтетической рациональности» [Окон-ская Н.К. и др., 2016, с. 21].
Неумение мыслить ценностными категориями демонстрирует моральную незрелость человека и общества. Эта незрелость чревата откатом социума в прошлое — и, пожалуй, дальше, чем в средневековье, где объединяющей людей и регулирующей их деятельность силой выступали как религиозная традиция, так и образование с его рациональной (знаниевой) общезначимостью.
С другой стороны, если исходить из открытий И. Канта в области практической философии, мы будем должны исключить гетероном-ность (вмешательство общественного мнения или массовых социальных институтов — религии, государства, пр.) в качестве средства усиления «доброй» природы человека, в качестве истока и причины ограничения деструктивных тенденций отношений людей. По Канту, мораль автономна.
Но если так, то требуется найти объективные основания нравственного прогресс а, определив при этом и основания для объяснения случаев нравственной деградации. Для коллективного субъекта этот же вопрос будет звучать несколько по-другому: почему падение морального уровня общественных групп и целых конкретных обществ в информационноцифровую эпоху, в период товарного изобилия и растущего уровня образования может быть столь значительным, подводя историю к грани самоуничтожения человечества? Вкладом в попытку ответить на эти вопросы и является данная статья.
Гипотеза авторов состоит в том, что однозначные, жестко детерминированные и рационально осмысленные связи между людьми едва ли совместимы с адекватным функционирова- нием и развитием ценностей. Подлинно человеческие ценности существенно противопоставляются нами конечному ограниченному набору связей, т.к. только благодаря бесконечности выбора каждый знак-значение обретает смысл. Данный тезис наглядно проявляется в ценностно-рациональной активности человека, не гарантирующей успеха достижения цели, но только таким образом обеспечивающей обретение смысла стремления к ней и потому дающей силы познавать неизведанное и побеждать непобедимое. Обратным примером является практика обращения к целерациональной или, в еще большей степени, — традиционной деятельности, не ставящей перед человеком сложных мировоззренческих задач, апеллирующей к вполне стандартным, ординарным смыслам, а значит ограничивающей его конкретным (характерным для культурного контекста) набором связей.
Теория систем и синергетика как теоретическое основание концепции ценностей
Лишение ценностной стороны субъекта момента хаоса, переход к однозначной детерминированности и упорядочиванию означает, что занимающийся рутинизированной деятельностью и в этом смысле «технизированный» человек идет на потерю бесконечных степеней свободы выбора , получая взамен скорость и силу природных уровней организации материи при существующих технологиях, в первую очередь, физического уровня организации — например, в условиях массового применения «технизированным» человеком систем искусственного интеллекта (ИИ). Ценности — это связи субъекта с миром, функционирующие в ситуации, когда связям, реализующим смыслы субъекта, предоставлена бесконечная степень свободы через выбор вариантов, ведущих к образованию все новых подсистем.
Поясним это понимание ценностей, воспользовавшись инструментами таких влиятельных общенаучных концепций, как общая теория систем и синергетика . Первоначально синергетический подход использовался в естественных науках. Однако в последнее время этот общенаучный подход многое дает для понимания закономерностей развития общества [Оконская Н.К., 2013; Оконская Н.К. и др.,
2016; Хакен Г., 2015; Чернавский Д.С., 2021; Бряник Н.В., 2019; Малинецкий Г.Г., 2024]. На наш взгляд, основная нетривиальная идея синергетики — о ведущей роли хаоса в развитии систем, где хаос означает, что каждый элемент системы связан с каждым элементом этой системы не только прямыми связями. Новый порядок всегда есть следствие хаоса. Самыми распространенными воплощениями порядка являются технологии и их носители, т.е. техника. Техника в высшей степени рациональна, связи элементов в ней характеризуются строгим ограничением степеней свободы. Человек, организуя технически свою коммуникацию с природой, как внешней, так и внутренней, ограничивает степени свободы связей. Так из хаоса, где каждый элемент системы связан с каждым другим, возникает порядок, обеспечивая прогрессивную направленность саморазвития общества.
В развитие нашей гипотезы, сформулированной в первом разделе статьи, мы выдвигаем предположение о существенной связи феномена ценностей со спецификой хаотизации социума человеком: развитие духовности человека с неизбежностью ведет к возрастанию «хаотизи-рующей мощи» субъекта, что является показателем личностной зрелости. Именно благодаря прогрессивному развитию ценностномотивационного компонента личности, опережающему целерациональную активность, идет актуализация личностного потенциала. Условием для проявления этой зависимости является основополагающий для архитектуры постиндустриального (информационного) общества запрос на инновационность, позволяющую поддерживать высокие (и все ускоряющиеся) темпы интенсивного развития социальных институтов. Напротив, использование типизированных (стандартизированных) норм и алгоритмов действий, перенимаемых человеком из окружающей его социокультурной среды, с меньшей вероятностью и гораздо медленнее приводит к инновационным результатам. В информационно емкой среде именно ценностно насыщенная рациональная активность личности позволяет ей «заглянуть» за привычное, «увидеть» то, чего не видит «стандартизированный» индивид, стать личностью-инноватором.
В обыденной жизни в ценностях видят в первую очередь нормативные функции. Как следствие, для рядового обывателя ценностные элементы мировоззрения, подобно политическим и правовым нормам, интерпретируются как придуманные. Однако для исследователя очевидна институциональная природа возникновения ценностно-мотивационного компонента личности, благодаря чему так органично компонуются базовые запросы социальной системы.
Возникает вопрос: возможно ли с позиций объективного подхода обосновать антицен-ностную суть насилия, всех видов деструктивного поведения (в отношении субъектности, природы, экономики и т.д.), в том числе и когда эти деструктивные процессы через благую цель оправдываются в массовом сознании [Внут-ских А.Ю. и др., 2017]? Ведь в наши дня, для которых в науке столь характерно отрицание истины, когда господствует мировоззренческий плюрализм, массовое сознание способно выдавать любые эмпирические суждения значительных групп индивидов за ценности. Действительно, можно ли в строгом смысле считать ценностью то, что человек ценит и называет своей ценностью ? К примеру, фашизм, арийская идеология, культура скинхедов имеют, к сожалению, немало приверженцев [Шнирель-ман В.А., 2011].
Технологизация общественных связей и деградация ценностей
Для ответа на этот вопрос придется избавиться от неясности значения категории «ценность» и функционального подхода с его описательно-стью при попытке поставить и решить проблему ценностей. Зачастую мы наблюдаем подмену ценностей целями. Но цели сами по себе отличаются от средств лишь своей временной и пространственной «удаленностью». Цели всегда достижимы; и если они и связаны со смыслом, то лишь частично. Упомянутую же выше хаотизацию следует отнести именно к реализации смысла бытия, жизни, деятельности, но не к целям.
Интересы субъекта и ценности субъекта не одно и то же, т.к. не каждый интерес можно характеризовать как ценность. Предложим следующий критерий различения: созидание смысла в оппозиции разрушению смысла под знаком упорядочивания правил. Созидание смысла и его практическое использование происходит в аксиологической практике коллек- тивных и индивидуальных субъектов [Ермаков М.А., 2013]. Пропаганда «правильного» поведения под знаком ценностей с использованием для их навязывания разрушения традиций, обычаев, объективной необходимости общественного развития может осуществляться как государствами, так и другими влиятельными игроками. Эта пропаганда приводит сегодня к популяризации идеологии, предполагающей абсолютизацию индивидуалистических «ценностей». Такая реабилитация принципов эгоцентризма детерминирует нарастание дисфункциональности семейных, дружеских, корпоративных социальных практик и пр. Одним ярким примером такой реабилитации является транслирование и все большая распространенность в «развитых» странах позиции, трактующей рождение детей как эгоистичный, разрушающий природу и ресурсы проступок родителей. Другим примером является повсеместное выстраивание системы корпоративной культуры вокруг всеобъемлющего стремления к выгоде. При этом второе способствует усилению многомерных социальных противоречий и социальной дезинтеграции; первое — потенциально способно лишить человечество шанса эти противоречия разрешить хотя бы в будущем. И то, и другое есть следствие опоры на определенный порядок, на технологизацию отношений между людьми и социальными институтами. Какой же может быть альтернатива в развитии этих отношений?
Коммуникация и труд как проявление социальных связей-ценностей
Общий уровень моральной защиты социума от указанных негативных тенденций можно отследить по степени реализованной природносоциальной способности каждого человека к общению, к коммуникации . Сравнение ослабления и усиления способности к коммуникации, коррелирующие с ценностной настроенностью субъектов, позволяет увидеть, что сущность ценностей может быть представлена как связи человека с другими людьми, с природой, с социальными институтами. Всеобщая связь, отражаемая соответствующим принципом диалектики, объективна, а в обществе эта всеобщая обусловленность развития выступает в виде ценностных скреп.
Аналогичным образом можно рассматривать и материальное производство, интегрируемое законом стоимости (материалистическое понимание истории К. Маркса). Стоимость выступает в виде меры общественно необходимого всеобщего труда. Стоимость, переводимая как value , или ценность товара в англоязычных странах, зачастую сводится к пользе. Однако стоимость только тогда может выступать универсальной мерой труда, когда она служит всем без исключения участникам общественного производства, тогда как польза всегда относительна [Веретенникова Н.В. и др., 2015].
Главной производительной силой является человек с его способностями к труду, коммуникации, мышлению [Игнатьев М.Б. и др., 2019]. Это единственная материальная опора общества, не несущая в себе как таковой антагонистического разрыва. Раскол общества и отчуждение человека возникает из-за классового разделения. Поэтому акцент на технологических характеристиках в качестве якобы особо значимых для понимания и совершенствования общественных связей, скорее всего, является результатом определенной идеологической работы. В результате участники производства, основанного на отчужденном труде и соответствующей экономической коммуникации, отнимая у себя собственно человеческое измерение этих связей, вынуждены включаться в бесконечную конкурентную борьбу с другими «технизированными» индивидами и социальными группами.
Итак, объективные основания ценностей заложены в общественно значимом труде и в общественно значимой коммуникации субъектов. При этом способность к труду и коммуникации сформировались у человека в ходе антропосоциогенеза на самых ранних его этапах. В ходе их становления менялся и мозг гоминид [Поршнев Б.Ф., 1974; Оконская Н.К., Ермаков М.А., 2012; Оконская Н.К. и др., 2020], формируя функциональную асимметрию, отсутствующую даже у высших животных. Гоминиды как компоненты биогеоценоза начали задействовать собственные внутренние источники усложнения среды. Каждый индивид во все большей мере оказывается способным поступать как целое, как родовое существо — и тем самым параллельно хаотизировал форми- рующийся социум, открывая новые способы взаимодействия с природой и себе подобными.
Объективными основаниями ценностей выступают связи. Материальные связи объективны, не нуждаются в осознании, служат фундаментом человеческого бытия. Идеальные связи формируются как осознанные, при этом ни одна духовная связь не может быть реализована средствами природной одаренности человека и общества без знаний, морали, свободы. И напротив, благодаря идеальным ценностям и природа людей может быть воссоздана и преумножена.
Заключение
Сегодня, в эпоху эрозии традиционных ценностей и глобализации, связи человека с другими людьми, обществом и природой не могут эффективно (в интересах развития всех этих начал) функционировать вне объективных критериев истины; вне свободы как осознанной необходимости; без любви как преодоления эгоизма [Поппер К., 1983; Поршнев Б.Ф., 1974; Пружинин Б.И. и др., 2017; Оконская Н.К. и др., 2020]. К сожалению, в противовес этим смыслам свобода продолжает пониматься как вседозволенность, любовь отождествляется с сексуальными техниками, а личность сводится к технизированному индивиду.
Вместе с тем, сегодня можно констатировать возможность создания практически бесконечного многообразия связей человека с другими людьми, обществом и природой. Прежде регуляторы поведения, состоящие из блоков запрета или повеления, носили гетерономный характер. Мораль находилась вне индивидуализации воли и совести субъекта, а потому вне автономности — лишь в стадии зарождения. В наши дни ситуация изменилась, и теперь только сам автономный субъект может, созидая все новые связи, создавать объективные основания для формирования ценностных систем, вырастающих из его собственного труда и мышления.
Итак, в основе роста духовных сил, состоящих из ценностных законов личности, лежат способности человека к труду, мышлению, коммуникации, которые делают субъекта сильным хаотизаторо м, способным свободно (т.е. через осознание и практическое использование необходимости) координировать связи каждого элемента социальных систем с каждым другим элементом.