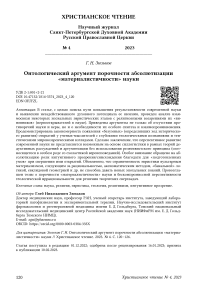Онтологический аргумент порочности абсолютизации «материалистичности» науки
Автор: Зюзьков Глеб Николаевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье, с целью поиска пути повышения результативности современной науки и выявления незадействованного духовного потенциала ее явления, проведен анализ взаимосвязи некоторых эпохальных эвристических этапов с религиозными воззрениями их «виновников» (первооткрывателей в науке). Приведены аргументы не только об отсутствии противоречий науки и веры, но и о необходимости их особого синтеза и взаимопроникновения. Продемонстрирована закономерность появления «безумных» (определявших ход исторического развития) открытий у ученых-мыслителей с глубокими теологическими познаниями и теистическими мировоззренческими взглядами. Сделано заключение, что перспективное развитие современной науки не представляется возможным на основе силлогистики в рамках теорий дедуктивных рассуждений и аргументации без использования релятивистского принципа (соотносящегося в особом роде со схоластикой вероисповеданий). Особое внимание обращено на абсолютизацию роли интуитивного прозрения/снисхождения благодати для «подготовленных умов» при свершении ими открытий. Обозначено, что ограниченность эвристики вульгарным материализмом, следующим за рациональностью, аксиоматическим методом, «банальной» логикой, евклидовой геометрией и др. не способна давать новых эпохальных знаний. Провозглашен тезис о порочности «материалистичности» науки и бескомпромиссной перспективности теологической иррациональности для решения творческих сверхзадач.
Наука, религия, эвристика, теология, релятивизм, интуитивное прозрение
Короткий адрес: https://sciup.org/140303089
IDR: 140303089 | УДК: 2-1:001+2-21 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_4_120
Текст научной статьи Онтологический аргумент порочности абсолютизации «материалистичности» науки
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.4
Gleb N. Zyuzkov
An Ontological Argument for the Fallacy of Absolute Materialism in Science
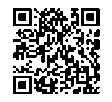
UDK 2-1:001+2-21
EDN OIUFZL
Вопросы как основа для явления понимания потенциала науки
«…Зачем идут не по одной дороге подобье и прообраз? Мысль вокруг витает и нуждается в подмоге»1™ Метафорический смысл этой строфы «Божественной комедии» Данте Алигьери необычайно соотносится c материалом настоящих рассуждений. Научно-технический прогресс (далее — НТП), казалось бы, — несомненное достижение человеческой цивилизации последних тысячелетий. При этом считается, что в его основе первостепенное значение имела наука (определяемая, по крайней мере, в сложившемся в ХХ в. понимании этого термина). Однако какова аксиология НТП и науки? Насколько полно их взаимодействие? Какова его эффективность? Насколько полно НТП соотносится с преобразованием гуманистических принципов общества? Каков итог их влияния на личность? Все это лишь в некотором роде риторические вопросы, являющиеся следствием преимущественно схоластических рассуждений. Ответы на них могли бы, наверное, во многом стать корнем и основанием истинного познания мира и эпохальным этапом развития общества и реализации дельфийской максимы «Temet nosce».
В то же время невозможность достижения этого результата очевидна исходя не только из релятивистического принципа, но и из сущности фаллибилизма, согласно которому любое научное знание о реальности в каждый конкретный момент времени является лишь частичным — точкой в континууме недостоверности и неопределенности. Остается надеяться, что иным образом обстоит дело с размышлениями над перспективой повышения результативности той самой науки. Насколько эффективно использовались и используются сегодня интеллектуальные ресурсы? Можно ли считать фактически получаемый результат высокопродуктивным? В чем заключается незадействованный потенциал?
Целью работы явился поиск пути повышения результативности современной науки в рамках выявления и реализации незадействованного духовного потенциала ее явления.
«Духовность» личности и масштаб ее мировоззрения
Невероятным представляется дать «дантовский» (исчерпывающий по глубине и детализации) охват этого вопроса. Однако даже исторически фрагментированный объективный анализ некоторых этапов развития науки и структуры личности и духа формировавших ее «исполинов» отражает ряд истинных закономерностей величайших открытий.
Их масштаб напрямую соотносится с более чем «космическим» масштабом имманентных мировоззренческих взглядов (пусть даже, как сегодня очевидно, в ряде случаев несправедливых (ошибочных)). Расчет размера ада и роста Люцифера основателем экспериментальной физики Галилео Галилеем2 не уменьшает его гений, а составление «рецептов» производства гомункулуса3 не умаляет заслуг прагматика Парацельса в области материалистичной медицины. Но откуда в те времена были масштабы мысли шире и глубже, чем сегодня (по крайней мере, среди среднестатистического человека ученого)? Что утрачено? Ответ: истинное, глубокое религиозное воззрение. Да, пусть в ряде случаев еретическое мистическое представление о мире. Например, тот же Парацельс называл себя атеистом и убежденно стоял на позициях антропоцентризма. Но он искренно полагал, что все в мире проникнуто таинственным «археем» (духом), и был апологетом панпсихизма.
Вторая половина XIX в. и весь ХХ в. в подавляющем большинстве «просвещенных» стран явились временем расцвета атеизма, материализма и нигилизма. И часто считают, что подобная «объективизация» взглядов на мир заключает в себе основу стремительного роста научно-технического прогресса. Но так ли это в действительности? Все «движители» науки тех лет сохраняли если не ортодоксальные и вселенские религиозные (прежде всего христианские) воззрения, то уж пантеистические взгляды после глубокого (как им казалось) изучения религий и богословия. Необоснованно редко и лишь мимолетом принято говорить, например, что один из основателей математического анализа, теории вероятностей и автор основного закона гидростатики Блез Паскаль был очень религиозен, а в 31 год пережив мистическое озарение свыше, все силы решил отдать защите веры и до конца дней оставался верен своему «Мемориалу» (см.: [Œuvres de Blaise Pascal, 1925, 3–6]).
Рене Декарт — «революционер» науки, утверждающий «Cogito, ergo sum», апологет рационализма, выводит доказательства реальности бытия Бога (см.: [Декарт, 1994]). Таким образом, его «интеллектуальный критерий истины» в философии, математике, аналитической геометрии и других науках вовсе не противопоставлялся мировоззрению теоцентризма. Очевидно, его сознание предполагало синтез теологии и процесса научного познания мира.
А насколько циничным является приписывание Чарльзу Дарвину фразы «человек произошел от обезьяны»?! За свою долгую жизнь автор эволюционной теории отметился неоднозначными высказываниями по ряду вопросов в области теологии, которую он подробно изучал в Кембридже, желая стать пастором. Однако его «Происхождение видов» [Darwin, 1859] не мешало ему не быть атеистом. Он никогда не отрицал существование Бога. Называя себя агностиком, был полностью согласен с теологическими аргументами английского философа Уильяма Пейли, объясняющего адаптацию живых организмов реализацией замысла Божьего посредством законов природы (см.: [Поленый, 2018]). А есть ли противоречие в том, что автор теории Большого взрыва и модели расширения Вселенной, общепринятых сегодня в космологии, описывающих процессы рождения Вселенной из сингулярности, был не просто глубоко верующим человеком, но священником (см.: [Deprit, 1984, 363-392])?! Не теологическая ли просвещенность и связанная с ней глубина и широта мысли позволили Жоржу Леметру (автору книги «Первые три слова Бога») дать «Самое красивое объяснение сотворения мира»?4
Противопоставление науки и религии наиболее остро проявилось в католицизме. Хотя еще в XIII в. Фома Аквинский указывал на отсутствие противоречий между наукой и верой, но его слова были искажены и толковались впоследствии противным образом ангажированными служителями Церкви и инквизицией (см.: [Фома Аквинский, 2005]). Для ортодоксального христианства подобного (по крайней мере, убиквитарного) противопоставления веры и знаний никогда не было. Напротив, православная святоотеческая литература благодатно усыпана высказываниями о ценности размышлений в духе: «Без размышления нет добродетели»5: «Нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание есть свет разумной души» (Иоанн Дамаскин); «Орган зрения телесного — глаза, орган зрения душевного — ум™ Душа, не имеющая благого ума и доброй жизни, слепа… Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое» (Антоний Великий); «Не должно унижать ученость, как рассуждают об этом некоторые; а напротив, надобно признать глупыми и невеждами тех, которые, придерживаясь такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве…» (Григорий Богослов); «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством» (Филарет Дроздов) (см.: [Цветник духовный, 2020]) и др.
Релятивистский принцип в науке и вера
Наиболее часто в первую очередь авраамические религиозные воззрения отвергаются вследствие «непонятности» и необъяснимости их догм для логики антропоморфного мозга. Силлогистика в рамках теорий дедуктивных рассуждений и аргументации (т. е. ни формальная, ни диалектическая, ни другие виды «банальной» логики) не способна формализовать понимание Святой Троицы, Ветхозаветной Троицы, или как Всемогущий Бог дал распять Своего Сына, а по сути — Себя, и прочее, и прочее. При этом сомнений о корпускулярно-волновом дуализме, квазичастицах, черных дырах, релятивистских частицах, механике, массе, эффектах и многих других понятиях и объектах современной науки обычно не возникает — ведь об этом в школьных учебниках написано.
Однако это не менее абстрактные понятия. Многие постулаты выведены из экспериментов, способных лишь косвенно доказать те или иные знания, а зачастую лишь предположить наличие определенных феноменов. Достаточно ознакомиться со «спорами» и аргументами Альберта Эйнштейна и Нильса Бора в рамках их дискуссии о квантовой механике (см.: [Кумар, 2015]). Причем до сих пор нет понимания, кто же из них был прав. А теории относительности (сначала специальная, а потом и общая теория относительности) как пример «релятивистской физики» — разве они укладываются в понимание по крайней мере большинства людей?! По ряду аспектов пространственно-временных свойств физических процессов также до сих пор нет единого мнения среди специалистов (см.: [Суворов, 1979, 28–39]). А теории Курта Гёделя о неполноте в арифметике (теорема Гёделя о неполноте и вторая теорема Гёделя). Казалось бы, как?! Уж в арифметике-то что может быть нелогичного? Оказывается, существуют принципиальные ограничения формальной арифметики и, как следствие, всякой формальной системы, в которой можно определить основные арифметические понятия. Первая теорема утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то она неполна. При этом вторая теорема усугубляла для современников Гёделя «хаос» первой: если формальная арифметика непротиворечива, то в ней невыводи-ма формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой арифметики. То есть, по сути, непротиворечивость арифметики нельзя доказать исходя из самих аксиом арифметики, если только арифметика не является на самом деле противоречивой (см.: [Проблемы Гильберта, 1969, 83–91])6.
Рассматривая религию и «высокую науку» таким образом, можно заметить некую аналогию, по крайней мере в «инструменте» достижения результата. Что все-таки приводит людей к истинному служению Богу? — должна просто «снизойти благодать»! А что позволяет человеческому мозгу в нарушение логики и аксиоматического метода совершать «безумные» открытия? — в первую очередь интуитивное прозрение!
Да, основанное на огромных знаниях, точно по Луи Пастеру: «случай благоволит умам подготовленным» (см.: [Debré, 1994]), но все-таки интуитивное прозрение. Это точно отражено в высказывании Анри Пуанкаре «Интуиция есть орудие изобретательства» (см.: [Пуанкаре, 1989, 205–218]). А схождение той самой благодати Божьей — это ли не интуитивное прозрение?! Именно религиозные воззрения, изучение Писания и святоотеческой литературы могут (но, конечно, все равно при достаточном усердии и только у «избранных») открыть способность научиться находить путь к прозрению, думать «нелогично» — в нарушение существующих аксиом и законов. И, как следствие, возможно, предлагать действительно перспективные теории на основе «безумных» гипотез, ведь «хорошая теория должна быть достаточно безумной»7.
Размышления о Всевышнем и поиск ответов на вопросы в области богословия, помимо прочего, «обучают» мозг в высшей степени абстрагироваться от любых «земных» ограничений и методов размышлений и создавать качественно новое без накопления количества до «критической массы». Даже философия в отрыве от религии не способна давать подобного результата (хотя высокую философию и оторвать от религиозных воззрений вряд ли возможно). До какой же степени, в таком случае, допустимо следовать «безумию» и/или релятивистическому принципу, сохраняя эв-ристичность? Границы иррациональности в данном случае, опять же, может указать только интуиция, или — «насколько это угодно Богу».
Следует попробовать взглянуть на науку и религию также с иной стороны и привести иную аналогию, но уже исходя из «инструментов» научного исследования. Науку в таком случае следует сравнить с «микроскопом». Можно самым детальным образом (на субмолекулярном уровне, на уровне элементарных частиц и кварков) изучить объект, но даст ли это полное представление о нем? Если этот объект просто больше, чем помещается под «микроскоп»? Даст ли, например, изучение под микроскопом любого условного млекопитающего исчерпывающее представление о нем? Конечно нет. Такой объект — это не только клеточные элементы и внутриклеточные структуры. Это и его поведение, и физиология, и прочее — в сущности, куда более важное для понимания этого объекта. Ведь «большое видится на расстоянии». Так и религия позволяет взглянуть на проблему максимально «издалека», а оттого и более естественно и целостно.
А. Эйнштейн был убежден, что «наука, искусство и религия — три ветви одного дерева» (см.: [Einstein, 1967]). Да, лишь синтез этих трех начал способен дать максимально полную картину мира и позволить приблизиться к единой цели науки и религии — познанию себя как основанию всякой благостыни. «Ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле» (Достоевский, 1988– 1996, 319–320). И религия в этом — самый действенный истинный помощник, ведь «малое количество знаний удаляет от Бога, большие знания приближают к Нему»8 (см.: [Сахарова, 2018, 130–138]) и лишь «с первым глотком из сосуда естествознания исследователь делается атеистом, хотя на дне его ожидает Бог»9.
Итог: «Нужно носить хаос, чтобы родить танцующую звезду»10
Абсолютизация «материалистичности» (сенситивно-логической доступности) науки — то есть ее «искусственная» ограниченность «видимым» и примитивизация, следующая за рациональностью, аксиоматическим методом, «банальной» логикой, лишь евклидовой геометрией, исключающая релятивистский принцип (крайне явно представленный в вере) и снисхождение благодати Божьей, не способна дать новых знаний уровня Декарта, Паскаля, Ньютона, Лобачевского, Римана, Эйнштейна, Гёделя, Леметра и прочих истых гениев. Знаний столь «безумных», какими они становились и при жизни их первооткрывателей, и во многом остаются сегодня. Гениальные идеи рождаются из неизведанного, но приводят к необычайному. Иначе в «масштабе вселенной» наука у нас в миру будет реализовываться по Федору Михайловичу: «А между тем это был ведь человек умнейший и даро-витейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается» (Достоевский, 2021, 4), и не даст всего потенциально предназначенного.
Список литературы Онтологический аргумент порочности абсолютизации «материалистичности» науки
- Декарт (1994) — Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом. М.: Мысль. 1994. 71 с.
- Достоевский (1988-1996) — Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. С. 319-320.
- Достоевский (2021) —Достоевский Ф.М. Бесы. М.: Эксмо, 2021. С. 4.
- Кумар (2015) — Кумар М. Квант: Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности. М.: АСТ; Corpus, 2015. 592 с.
- Поленый (2018) — Поленый Д.Г. Естественная теология Уильяма Пейли и неокреационизм // Историко-биологические исследования. 2018. Т. 10. №4. С. 95-106.
- Проблемы Гильберта (1969) — Проблемы Гильберта / Под ред. П. С. Александрова. М.: Наука, 1969. С. 83-91.
- Пуанкаре (1989) — Пуанкаре А. Интуиция и логика в математике // Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1989. С. 205-218.
- Сахарова (2018) — Сахарова М.В. Наука и религия: размышления над списком верующих ученых // Сервис Plus. 2018. Т. 12. № 4. С. 130-138.
- Суворов (1979) — Суворов С.Г. Эйнштейн: становление теории относительности и некоторые гносеологические уроки // Успехи физических наук. 1979. Т. 128. № 3. С. 28-39.
- Фома Аквинский (2005) — Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч. I: Вопросы 75-119 / Пер., ред. и прим. С. И. Еремеева. К.: Эльга, Ника-Центр. 2005. 576 с.
- Цветник духовный (2020) — Цветник духовный. Мысли и изречения святых / Под ред. Д. В. Пушкиной. М.: Даръ, 2020. 544 с.
- Darwin (1859) — Darwin Ch.R. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray, 1859. 491 p.
- Debré (1994) — Debré P. Louis Pasteur. Baltimore, MD; London: Johns Hopkins University Press, 1994. 552 p.
- Deprit (1984) — Deprit A. Monsignor Georges Lemaitre // Berger A. The Big Bang and Georges Lemaître. Dordrecht: Springer, 1984. P. 363-392.
- Einstein (1967) — Einstein A. Out of My Later Years. Littelfield: Adams and Company, 1967. 251 p.
- Ethos (1988) — Ethos (die Zeitschrift fur die ganze Familie). Berneck: Schwengeler Verlag AG, 1988. No. 10.
- Œuvres de Blaise Pascal (1925) — Œuvres de Blaise Pascal. Paris,1925. T. XII. P. 3-6.