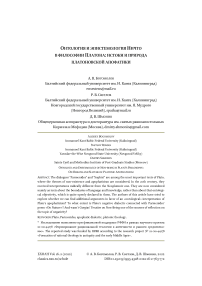Онтология и эпистемология Ничто в философии Платона: истоки и природа платоновской апофатики
Автор: Богомолов Алексей Владимирович, Светлов Роман Викторович, Шмонин Дмитрий Викторович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.16, 2022 года.
Бесплатный доступ
В ХХ столетии диалоги «Парменид» и «Софист», одни из важнейших текстов Платона, где рассматриваются темы небытия и апофатики, получили толкование, радикально отличающееся от неоплатонического. Они рассматриваются, скорее, как тексты о границах языка и знания, чем о той предметности, которая вполне открыто в них декларируется. Авторы этой статьи попробовали исследовать, можем ли мы обнаружить дополнительные аргументы в пользу «онтологического» толкования апофатики Платона? Насколько негативная диалектика Платона связана с поэмой Парменида «О природе»? И не был ли одним из истоков рефлексии на туме негативности «Трактат о небытии» Горгия?
Платон, Парменид, апофатическая диалектика, платоновская теология
Короткий адрес: https://sciup.org/147237662
IDR: 147237662 | DOI: 10.25205/1995-4328-2022-16-2-763-772
Текст научной статьи Онтология и эпистемология Ничто в философии Платона: истоки и природа платоновской апофатики
Апофатика в философии Платона, оказавшая фундаментальное влияние на западноевропейскую традицию, является одной из дискуссионных тем для историков античной философии. Сложность историко-философской реконструкции апофатической проблематики в философии Платона обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, отметим то очевидное обстоятельство, что релевантные негативной диалектике темы наличествуют в различных диалогах, из чего с необходимостью следует вопрос о систематизации отдельных фрагментов апофатического дискурса в философии основателя Академии. И вместе с тем тут же возникает вопрос-антитеза: возможно ли подведение всей апофатической проблематики у Платона под единый знаменатель? И не стоит ли предпочесть исследование апофатики рамками отдельных диалогов? И, в последнем случае, рассуждая об апофа-тике Платона, не находим ли мы в его диалогах то, чего там попросту нет, находясь под влиянием очарования апофатического богословия неоплатоников. Действительно, последние нашли весьма эффективную «точку сборки» текстов Платона, которые достаточно часто противоречат друг другу, но из которой основатель Академии прочитывается как богослов и мистик. А можем ли мы утверждать, что Платон был таковым?
Нам уже доводилось писать о том, что в XX столетии традиционное «апофатическое» прочтение целого ряда платоновских текстов претерпевает эрозию (Богомолов, Светлов 2021, 41–73). Такая «переоценка ценностей» вызвана изменением фокуса внимания современной философии – от тематики сущности и субстанции к проблемам эпистемологии, от синтетической методологии к аналитической. С этой точки зрения «апофатические» дискурсы «Парменида» и, прежде всего, текст и логика первой гипотезы могут расцениваться как указание на фатальную ошибку элеатского мышления, когда лишенное любой предикации Одно/Единое замыкается в круге бесконечной самореференции. То, что эта ошибка совершается и признается самим Парменидом, только усиливает почти театральный эффект от данного текста (Tabak 2015, 58–71). Либо же диалектика «Парменида» рассматривается как необходимый путь тренинга наших мыслительных способностей (Shorey 1933, 287–293). Еще один вариант трактовки «гипотез» «Парменида» заключатся в рассмотрении их с точки зрения возможностей нашего языка: речь в диалоге идет не об отдельном существовании Единого и Многого, а о том, как возможно в максимальной степени зафиксировать все существенные проблемы теории идей, когда она выражается в нашем языке – но не каким-то образом отказаться от нее (Бугай 2017, 109–121).
Однако даже если мы полностью откажемся от неоплатонического прочтения «Парменида», это не должно увести нас в сторону от вопроса о про- исхождении тех дискурсов, которые вполне имеют апофатический характер, даже если мы должны трактовать их смысл не в духе Плотина-Ямвлиха-Прокла. Нам представляется, что вполне можно согласиться с выводом Ю.А. Шичалина о том, что «Парменид» отражает внутриакадемические дискуссии о возможности помыслить бытие и единство в отдельности (возможность, которую будет отрицать Аристотель) (Шичалин 2017, 121). Даже простая постановка этого вопроса приводит к дискурсу апофатики.
Вспомним знаменитую работу Э. Доддса и известный тезис автора: «Прочитайте вторую часть Парменида так, как читал ее Плотин…; не ищите в нем сатиру на мегарцев или кого‐либо еще, – и вы обнаружите в первой гипотезе ясное описание знаменитой “негативной теологии”» (Dodds 1928, 133). Здесь апофатизм рассматривается лишь в контексте необъятной темы влияния платоновской философии на неоплатонизм. Доддс предполагает, что платоновская апофатика является неким началом, исходным пунктом апофазиса в античной мысли. Однако откуда она появилась у Платона? В контексте современных историко-философских «мод» не удивительно, что проблема истока апофатических воззрений основателя Академии не относится к числу наиболее востребованных тем.
Настоящая статья в силу формата, конечно, не может претендовать на то, чтобы в должной степени обстоятельно осветить оба момента – и систематизацию апофатической проблематики в различных диалогах, и вопрос об истоках. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что мы отнюдь не склонны обращаться к известной тематике соответствия, в частности, Парменида «исторического» и Парменида в одноименном диалоге – в специальной литературе этот аспект представлен в достаточной степени. Свою задачу видим в том, чтобы поставить и рассмотреть вопрос о возможной преемственности апофатической проблематики – от досократиков к Платону. Однако и здесь надлежит обозначить некоторые существенные ограничения. Во-первых, необходимо определить, что ключевыми диалогами для нас станут «Парменид» и «Софист». Взаимосвязь этих двух диалогов часто становится предметом исследования (см. Протопопова 2018, 10–14). О значении первого из указанных диалогов для понимания апофатики упомянуто выше. В «Софисте» же определяющее значение имеет диалектика пяти «высших родов» и то понимание негативности, которое, впрочем, надлежит еще эксплицировать. И вместе с тем «Софист», как представляется, также являет собою проблемное поле, в котором наличествует и вопрос об истоках понимания апофатики.
Однако прежде всего, обратимся к вопросу об истоке апофазиса в «Пармениде». Проблема реконструкции апофатической проблематики в фило- софии самого Парменида – тема, к которой не столь часто обращаются исследователи. Исходным пунктом данной реконструкции являются представления элеата о небытии. Это суждение не содержит в себе противоречий, ибо очевидно, «запреты» на существование небытия в поэме есть не что иное как указание, по меньшей мере, на эпистемологический статус «не-сущего». В частности, на это указывает «связка» двух фрагментов «О природе»: «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι» и «χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ' ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι, μηδὲν δ' οὐκ ἔστιν»1. Сама же по себе апофатика с очевидностью представлена в тех фрагментах поэмы, где говорится о характеристиках, которыми наделяется бытие, среди которых «ἀγένητον», «ἀνώλεθρον». Дальнейший перечень находим в строках «ἔστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ΄ ἀτέλεστον». Здесь интересен момент, связанный с тем, что негативные дефиниции бытия обусловлены в том числе и онтологической установкой элеата о несуществовании небытия. Это обстоятельство примечательно и в контексте понимания специфики трактовки негативности в западноевропейской традиции, а именно то, что конституирующим элементом апофази-са является идея небытия или ничто (Дробышев 2016, 22). И, как показано выше, есть все основания предположить, что эта установка в выраженном виде формируется в учении элеата.
Далее, рецепцию того, что в «О природе» можно обозначить как апофа-тические определения бытия, конечно, находим в диалоге «Парменид». Вокруг таких определений строится, по сути, т.н. «первая гипотеза», которая, как принято полагать, является образцом апофатической теологии и основанием генологии неоплатоников. Негативные характеристики, о которых говорилось в поэме, в значительно более развернутом виде представлены и в диалоге, правда, в качестве обозначения известных противоречий. Взять хотя бы фрагмент из 141 e, в котором допускается, что, если единое никак не причастно никакому времени, то оно не настало, не настает и не есть, не станет и не будет в будущем (εἰ ἄρα τὸ ἓν μηδαμῇ μηδενὸς μετέχει χρόνου, οὔτε ποτὲ γέγονεν οὔτ᾽ ἐγίγνετο οὔτ᾽ ἦν ποτέ, οὔτε νῦν γέγονεν οὔτε γίγνεται οὔτε ἔστιν, οὔτ᾽ ἔπειτα γενήσεται οὔτε γενηθήσεται οὔτε ἔσται.2). Это положение отсылает нас к «ἀγένητον» и «ἀνώλεθρον» у Парменида. Однако здесь интересны выводы, которые следуют, в частности, из приведенного суждения. Так, в том же 141 е говорится, что единое не причастно бытию, а потому не существует. А в 142 а дается обобщающий вывод по первой гипотезе о том, что нет ни имени, ни слова, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия, ни мнения (οὐδ᾽ ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη οὐδὲ αἴσθησις οὐδὲ δόξα). На этот
А.В. Богомолов, Р.В. Светлов, Д.В. Шмонин / ΣΧΟΛΗ Vol. 16.2 (2022) 767 вывод следует обратить особое внимание в случае, когда мы говорим об истоках платоновской апофатики. В том, что апофатически трактуемое единое в первой гипотезе имеет много общего с бытием в «О природе», пожалуй, очевидно. И приведенное выше сравнение таких характеристик как «не-рожденность», «неуничтожимость» бытия в онтологии Парменида и «вне-временность» единого в одноименном диалоге это подтверждает. Впрочем, здесь важно еще раз подчеркнуть, что в поэме эти характеристики обусловливают не апофатический, а позитивный онтологический статус бытия, в то время как в диалоге первая гипотеза выполняет противоположную задачу. Мы, однако, полагаем, что нельзя не увидеть определенное сходство трактовки единого в первой гипотезе и интерпретации небытия в онтологии элеата. Рассмотрим этот тезис подробнее.
В самом деле, прежде всего, это указание на несуществование, что очевидно. Во-вторых, тезис о невозможности «именовать» единое, обусловливающий недопустимость «слова» о нем. По сути, это же мы находим и в одном из «запретов» существования небытия в «О природе». К примеру, в качестве ответа на вопрос о том, откуда происходит бытие, мы находим буквально: «οὔτ΄ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω φάσθαι σ΄ οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστι» («из не-сущего не позволю ни сказать, ни помыслить: не мыслимо, не выразимо, что есть не есть»). Отсюда и следует предположение, что первая гипотеза в «Пармениде» имеет своим основанием не только понимание бытия, но также и представления элеата о небытии. И наконец, еще одно обстоятельство, на которое важно обратить внимание. Здесь вкратце упомянем проблему т.н. третьего пути в философии Парменида. Среди многочисленных интерпретаций отметим трактовку А. О. Маковельского: «Парменид задается вопросом каковы основные предпосылки всех мыслимых мировоззрений, и находит, что всевозможные миросозерцания покоятся на одной из следующих трех предпосылок: 1) только бытие есть, небытия нет; 2) не только бытие, но и небытие существует; 3) бытие и небытие тождественны» (Маковельский 1915, 2). Пожалуй, дискуссионным представляется утверждение, что именно Парменид постулирует все три предпосылки – вторая и третья, скорее, итог историко-философской реконструкции, ибо автор поэмы истинным полагает только один путь. И вместе с тем с самим утверждением о наличии «трех предпосылок» можно согласиться. И в контексте тематики нашего исследования это представляется важным по следующей причине. Сама проблематика диалога «Парменид» строится на противоречиях, ключевое из которых «единое существует – единое не существует». В конечном счете это опять-таки является указанием невозможности постижения предельного основания сущего.
Мы полагаем, нечто схожее наличествует и в философии элеата. Однако с тем очевидным различием, что онтологический статус бытия в «О природе» не подвергается сомнению. Неоднозначным является как раз статус небытия, ничто. Вводя запреты на существование и возможность мыслить небытие, философ тем самым, конечно, добивается обратного. Иными словами, именно небытие становится тем понятием в философии элеата, которое во многом близко к единому в рассматриваемом диалоге. При этом еще раз подчеркнем, мы отнюдь не сводим все многообразие апофатической проблематики в диалоге к рецепции проблемы небытия в философии Парменида, а лишь обозначаем, что данная проблема в учении элеата может быть одним из оснований платоновской апофатики или, что, возможно, корректнее, платоновской негативной теологии.
Впрочем, даже если наш тезис о том, что проблема небытия в онтологии элеата, действительно, может рассматриваться в качестве некоей предпосылки формирования первой, «апофатической», гипотезы «Парменида», это отнюдь не означает, что эта предпосылка единственная. К примеру, тот же фрагмент 142 а, в котором представлен вывод по первой гипотезе: «οὐδ᾽ ἄρα ὄνομα ἔστιν αὐτῷ οὐδὲ λόγος οὐδέ τις ἐπιστήμη οὐδὲ αἴσθησις οὐδὲ δόξα». Мы полагаем, данное суждение интересно также и в контексте «софистической» триады Горгия. Более того, оно вполне может быть «парафразой» Горгия. Это обстоятельство вполне объяснимо, если согласиться с тем положением, что утраченное произведение софиста является неким ответом на поэму элеата, рефлексирующим ту же тематику, что и Платон. Несомненно, в триаде Горгия ключевое значение имеет понятие «ничто», «небытие». В этой связи обоснованным представляется вопрос о том, что собою представляет небытие в воззрениях софиста. Отметим, этот момент может иметь разные трактовки (для понимания того, насколько эти трактовки разнообразны (см. Галанин 2016, Вольф 2014, 198–216). Но можно предположить, что Горгий отнюдь не указывал на существование небытия. Напротив, используя противоречия, возникающие при использовании этого слова, показывал несостоятельность аргументации Парменида в той ее части, где обсуждается существование чего-либо вообще, в частности, бытия, и небытия. Но есть и, к примеру, мнение, согласно которому, позиция Горгия схожа с учением эле-ата. Об этом, в частности, можно найти у Брентано, согласно которому под небытием софист «подобно Пармениду – считал – все то, что не есть бытие неизменное, никогда неуловимое и непостижимое, отличное от чувственного мира, и утверждает, что о нем ничего не возможно знать» (Брентано 1886, 63–64). Иными словами, если мы говорим о рецепции учения Парменида о
А.В. Богомолов, Р.В. Светлов, Д.В. Шмонин / ΣΧΟΛΗ Vol. 16.2 (2022) 769 небытии в платоновской апофатике, то следует подчеркнуть и возможность опосредованного влияния на Платона горгиевой триады.
В контексте вопроса об историко-философской реконструкции апофати-ческой проблематики в философии Платона и с учетом рассмотренных выше положений из диалога «Парменид», обратимся также к диалогу «Софист». Эти два произведения нам интересны с той точки зрения, что в обоих диалогах в том или ином отношении наличествует прямая отсылка к философии элеата. И один из ключевых моментов в «Софисте» – опровержение Парменида, т.н. «отцеубийство», обусловленное как раз тем, что небытию приписывается статус существования.
Итак, существование небытия детерминировано необходимостью обоснования возможности лжи. Во фрагменте 237a находим: «τετόλμηκεν ὁ λόγος οὗτος ὑποθέσθαι τὸ μὴ ὂν εἶναι: ψεῦδος γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως ἐγίγνετο ὄν».3 Надо заметить, что трактовки небытия в диалоге проистекают из диалектики «пяти высших» родов. Мы не станем далее останавливаться на этом моменте из диалога. Отметим лишь то, что нам представляется важным в контексте понимания небытия в «Софисте». Здесь необходимо обратить внимание на 257 b: «ὁπόταν τὸ μὴ ὂν λέγωμεν, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἐναντίον τι λέγομεν τοῦ ὄντος ἀλλ᾽ ἕτερον μόνον». В этом фрагменте представлено понимание небытия как «иного» («ἕτερον»), что, безусловно, смещает акценты. Во-первых, само по себе введение, по сути, синонима (или alter ego?) ключевого понятия, конечно же, не случайно, ибо «ἕτερον» выполняет определенную функцию, которая, во-вторых, как раз и заключается в том, чтобы обозначить особенный статус небытия. Поясним это, последнее, положение. Иное, являясь одним из пяти «высших родов», существует и, вместе с тем, оно не является небытием как таковым. Во всяком случае не является противоположностью бытию, как об этом говорит тот же Парменид. Кроме того, следует подчеркнуть, что иное обусловливает бытие каждой из идеи самой собой, а не любой другой, поскольку любая идея, будучи причастной идее иного, становится иной по отношению к другим идеям и в конечном счете является самой собой ввиду причастности идее тождественности. В-третьих, да, идея небытия, понимаемого как иное, существует, но ἕτερον отнюдь не οὐκ ἔστιν, не μὴ ἐὸν, которые мы находим в «О природе». В этой связи мы рискнем предположить, что введение ἕτερον есть некоторая попытка, с одной стороны, показать, что небытие существует в этом качестве, а с другой, все же обозначить: утверждается существование не οὐκ ἔστιν, не μὴ ἐὸν Парменида. В этом отношении, нам представляется, имеет место некоторая двойственность, которая зало- жена еще в поэме элеата. Мы имеем в виду те противоречия Парменида, которые скрыты в постулируемых элеатом запретах на существование небытия. Иными словами, несмотря на то, что участники диалога называют себя «отцеубийцами», возможно, запрет на существование небытия как такового сохраняется, а небытие же наличествует как иное бытия, которое не только есть, но и мыслимо, и выразимо.
И наконец, сам принцип мыслить то, что «не есть» в истории греческой мысли четко был сформулирован именно Горгием. В самом деле, в трактовке, которая представлена у софиста, есть важное дополнение, о чем нельзя не упомянуть. Речь опять-таки о возражении Пармениду: «Сцилла, Химера и многое из не-сущего мыслится» (Лосев 1975, 76). У нас имеются все основания предположить, что противоречия, вскрываемые более ранними греческими мыслителями, при обращении к тематике несуществования находят свое отражение в понимании небытия и самим Платоном, в том числе, в диалоге «Софист».
Таким образом, апофатическая проблематика в философии Платона представлена в нескольких диалогах. Мы говорили лишь о двух из них, в которых присутствует прямое указанием на элейскую школу и элейскую доктрину. В диалоге «Парменид» особое внимание было уделено т.н. первой гипотезе. Показано, что одной из предпосылок апофатической трактовки единого можно считать трактовку небытия в философии элеата. В «Софисте» небытие трактуется как иное. Безусловно, трактовки небытия в обоих диалогах разнятся. Разнятся и задачи, решение которых потребовало введение тематики негативности в названные диалоги. В первом случае тема небытия оказывается связана с рассуждением о предметности мышления в ее предельном выражении. И при не-скептическом прочтении «Парменида» это создает условия для понимания его апофатики как указания на высшее и невыразимое начало. Во-втором («Софист»), оно вводится для прояснения природы различия, причем как в бытийном, так и в эпистемологическом статусе. Отсутствие (инаковость) позволяет всему сущему быть тождественным себе и познаваемым (срв. Benardete 2006, 153–154). Возможно, это «конструктивное» учение о небытии также получит продолжение у Аристотеля через понятие «лишенности». Ну а неоплатоники используют и «относительное» небытие для указания на сверхсущее начало.
Как мы постарались показать, возможными основаниями подходов Платона к небытию являются как учение Парменида, доказывавшего невозможность речи о нем, так и Горгия, от противного сформулировавшего допущение о мыслимости несуществующего и «протестировавшего» следствия из этого допущения. Таким образом, тема апофатики у Платона имела определенные интеллектуальные предпосылки в предшествующей философской традиции, а саму ее видимо не следует сводить к чисто аналитической или эпистемологической трактовке.
Список литературы Онтология и эпистемология Ничто в философии Платона: истоки и природа платоновской апофатики
- Богомолов, А.В., Светлов, Р.В. (2021) «Беседа с ничто: апофатический дискурс в античной философии», Платоновские исследования 15.2, 41–73.
- Брентано, Ф. (1886) Древние и современные софисты. Санкт-Петербург.
- Бугай, Д. В. (2017) «Единое не на потребу: к интерпретации второй части платоновского “Парменида”», Вопросы философии 1, 109–121.
- Вольф, М.Н. (2014) «Трактат «О несущем, или о природе» Горгия в De Melisso Xenophane Gorgia, V-VI: условно-формальная структура и перевод», ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 198–216.
- Галанин, Р.Б. (2016) Риторика Протагора и Горгия. Санкт-Петербург.
- Дробышев, В.Н. (2016) Апофатическая рациональность и ее трансформация в современной западной философии: Санкт-Петербург.
- Лосев А.Ф. ред. (1975). Секст Эмпирик. Сочинения в 2 томах. Москва. Т. 1.
- Маковельский, А.О. (1915) Досократики. Часть вторая (элеатовский период). Казань.
- Протопопова, И.А. (2018) Введение. Контекст диалога: «Парменид», в: Платон. Софист. Перевод, интерпретация, примечания и приложения И. А. Протопоповой. Санкт-Петербург.
- Шичалин, Ю.А. (2017) Введение. Жанр и композиция, в: Платон. Парменид. Перевод, интерпретация, приложения и примечания Ю.А. Шичалина. Санкт-Петербург.
- Benardete, S. (2006) The Being of the Beautiful. Plato’s Theaetetus, Sophist, and Statesman. Translated and with Commentary. The University of Chicago Press.
- Dodds, E. R. (1928) «The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic 'One'». The Classical Quarterly 22.3, 129–142.
- Shorey, P. (1933) What Plato Said. University of Chicago Press.
- Tabak, M. (2015) Plato’s Parmenides reconsidered. Palgrave Macmillan.