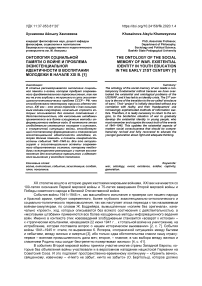Онтология социальной памяти о войне и проблема экзистенциальной идентичности в воспитании молодежи в начале ХХI в.
Автор: Хусаинова Айсылу Хамзеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается онтология социальной памяти о войне, которая требует современного фундаментального переосмысления, так как мы не учли глубину и не проникли в суть экзистенциально-онтологических проблем СССР - РФ, что способствовало некоторому «кризису идентичности». ХХI век - это эпоха перехода к так называемым войнам-симулякрам, изначально «проект» которых описывается без всякого соотнесения с действительностью, где «мозговыми штабами» применяются все более изощренные методы информационного ведения войн. В контексте этого злободневным становится «возврат к истокам», к «пограничной ситуации» войны, способствующий постепенному формированию и становлению экзистенциальной идентичности молодежи, которая должна помнить и познать конкретность истины событий 1941-1945 гг. Все это актуализирует и экзистенциальные аспекты современного общественного сознания, которому необходимы всесторонняя реанимация и полное восстановление для воспитания правильного и адекватного мышления у молодого поколения.
Война, онтология, событие, экзистенция, солдат, плен, поколение
Короткий адрес: https://sciup.org/149134079
IDR: 149134079 | УДК: 1:37-053.81“20” | DOI: 10.24158/fik.2020.1.4
Текст научной статьи Онтология социальной памяти о войне и проблема экзистенциальной идентичности в воспитании молодежи в начале ХХI в.
ХХ столетие вошло в историю двумя жестокими мировыми войнами, ХХI век начинается со 100-летия окончания Первой мировой войны и 75-летия завершения Второй мировой войны и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
События войны 1941 – 1945 гг., как масштабного испытания и проверки сил нашего народа и Красной армии, требуют современного, более глубокого экзистенциально-онтологического и социально-политического переосмысления, так как наступает эпоха перехода к так называемым войнам-симулякрам, по словам Ж. Бодрийяра, вымышленным «копиям без оригинала», изначально «проект», ход, которых описывается без всякого соотнесения с действительностью, а «мозговыми штабами» применяются все более изощренные методы информационного ведения войн. Именно в контексте этих нововведений злободневным становится «возврат к истокам» – к «трагическим испытаниям, начавшимся 22 июня 1941 г… к тотальной войне на уничтожение, на истребление, которая поставила вопрос о нашем историческом выживании» [2, с. 7]. События войны 1941 – 1945 гг. стали, по выражению К. Ясперса, «пограничной ситуацией» между бытием и небытием, между жизнью и смертью [3], ибо только «два обстоятельства спасли нашу страну: первое – военная промышленность дала меч; второе, – главное, в час выбора между жизнью и спасением Родины наш солдат бестрепетно пожертвовал жизнью» [4, с. 41].
В событиях Второй мировой войны приняли участие многие страны Западной Европы, которые без объявления войны участвовали и в вероломном нападении нацистской Германии на Советский Союз. И это подлежит пространственно-временному континууму – «Хранить вечно», священному, извечному – «Никто не забыт, ничто не забыто» (О. Берггольц), которое должно стать экзистенциальной опорой молодежи в наступившем ХХI столетии. Война 1941–1945 гг. стала «бытием как со-бытием» [5], последним «обиталищем» для многих из поколения «сороковых роковых», где «хлебнули горюшка по ноздри и выше» [6, с. 36], поэтому она требует всестороннего изучения и всеобъемлющего «вживания» (Ф. Шлейермахер), «вчувствования» (В. Диль-тей), «вчитывания» (В. Быков) в эту эпоху. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и окончания Второй мировой войны, итоги которой подвергаются порой немыслимой ревизии и неоднозначной оценке, «возврат к истокам», увековечивание имени воинов Бессмертного полка становятся весьма злободневными для сохранения социальной памяти и экзистенциальной идентичности подрастающего поколения, чтобы, по словам А. Твардовского, «памяти павших были достойны».
Как известно, проблема памяти весьма актуальна и в современной Германии, откуда фашистские полчища – войска вермахта начали свой «крестовый поход» против «низших рас» Советского Союза. Так сложилось, что ежегодно в ФРГ отмечается День памяти жертв войн и государственного насилия. Так, 19 ноября 2017 г. перед бундестагом выступил ученик гимназии города Новый Уренгой в Сибири. Данная гимназия находится под патронажем газовой промышленности и в течение девяти лет спонсируется корпорацией BASF-Wintershall по обмену с гимназией им. Фридриха II в ФРГ. В так называемом совместном «проекте» германских и российских школьников в некотором смысле проводится уравнивание преступников Третьего рейха с жертвами войны Советского Союза. В результате стирается грань между оккупантом-захватчиком фашистской Германии, «невинно убиенным», перенесшим «немыслимые страдания», погибшим в плену, и солдатом-защитником СССР, воином-освободителем.
«Был ли мальчик-то?» – это экзистенциальное вопрошание главного героя романа «Жизнь Клима Самгина» [7], которое завершалось фразой: «…может, мальчика-то и не было?». Таким образом Самгин пытается объяснить самому себе гибель друга детства, исчезнувшего в проруби: когда тот провалился под лед и стал тонуть, он не подал ему руку помощи, испугался, струсил, обуреваемый «страхом и трепетом» за свою безопасность [8, с. 287]. Вся последующая жизнь Самгина – это попытка «стирания» из памяти этого страшного события, желание свести его к нулю, «отойти» от своего предательства, быть «посторонним» (А. Камю) по отношению к своему гнусному поступку. Ибо если в событии «мальчика не было», то существование Самгина приобретает некий онтологический смысл, а если «мальчик был», то в экзистенции главного героя основным фактором становятся угрызения совести, ибо «мертвые сраму не имут», а «имут» только живые. В романе описываются глубокие духовные искания и внутренние терзания «жертвы истории», основанные на чувстве его вины перед чудовищным веком и ушедшим в небытие мальчиком.
Перефразируя мысль великого русского писателя, задаемся вопросом: «Был ли мальчик-то?», исследовавший материал, говоривший о «невинно погибших» нацистах фашистской армии вермахта, «а может, мальчика-то и не было»? Может, не было и Великой войны за Отечество, великого гимна «Священной войны»: «Вставай, страна огромная, // Вставай на смертный бой // С фашистской силой темною, // С проклятою ордой!», не было дружной семьи народов СССР, которые сложили головы «за други своя», ибо со времен Крещения Руси пронизывают всех слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (от Иоанна 15:13). Не было миллионов погибших на поле брани, расстрелянных, казненных гестапо, СС, убиенных в концлагерях, утонувших, исчезнувших в болотах и т. п. Очевидно, что постепенное стирание исторической памяти «проводится» поколением, рожденным после 1958 г., постпоколением «сороковых роковых», но «устами младенца», «мальчиком для битья» из Нового Уренгоя, куда «невинные фашистские» полчища Третьего рейха просто не дошли благодаря мощной обороне СССР и великого поколения 1941 – 1945 гг., ибо оно стояло насмерть за Волгу, Урал, Сибирь и за новый газопромышленный Уренгой.
В контексте современной информационной войны эпохи глобализма все более актуализируются и усугубляются фундаментальные вопросы войны и мира: кто развязал Вторую мировую войну, кто вероломно вторгся на территорию Советского Союза, кто принес огромные жертвы нашему народу и государству? И каким образом «невинно убиенный» и перенесший «немыслимые страдания» солдат Георг Йохан Рау из Третьего рейха оказался за 1000 км от своего дома в центре «Сталинградского котла»? Возможно, многие немцы не хотели воевать, но это не отменяет того факта, что оплаканный нашим гимназистом «невинный фашист» – захватчик вермахта попал в плен во время боев за Сталинград. Как известно, окруженные под Сталинградом немцы под началом Паулюса к моменту разгрома почти все были сильно обморожены, предельно истощены, обессилены, поскольку по приказу Гитлера продолжали сопротивление. Следовательно, единственным выходом из «Сталинградского котла» для крупной трехсоттысячной группировки вермахта оказался плен, после которого фюрер объявил трехдневный траур в Германии.
Ученый-антрополог К. Лоренц в молодости служил в фашистской армии Третьего рейха. За «ошибки молодости» к нему было неоднозначное отношение в общественно-политических и научных кругах, но он прошел через это, осознал, преодолел и смог высказать об этом очень важные мысли и идеи [9]. В 1943 г. К. Лоренц попал в плен под Витебском, и сам акт пленения стал для него большим потрясением. Во время военных событий на территории СССР, насмотревшись на злодеяния солдат вермахта, на своих сограждан-нацистов, он был уверен в бесконечной ненависти русских солдат к немцам. По воспоминаниям ученого, выходя из окружения, он ночью побежал к тем окопам, из которых стреляли по русским, и его ранили, он не смог уйти и заснул во ржи. Утром его разбудил русский солдат с возгласом: «Эй, камрад, выходи!» И когда он вышел из ржаного поля и сдался в плен, русский боец стал ему объяснять, какого они ночью «сваляли дурака»: в неразберихе две роты стреляли друг в друга. К. Лоренца поразило то, что русский солдат после такой незадачи хотел по-дружески выговориться перед пленным немцем. Он почувствовал, увидел «инстинкт общности» в его привычном, естественном выражении и потом много размышлял над тем, как болезненно этот инстинкт проявляется в тех, кто давно стал индивидуумом.
Очевидно, самым негативным проявлением болезненного инстинкта индивидуумов, «сверхчеловеков», идеологов нацизма и человеконенавистничества стали «фабрики смерти» на родине будущего ученого, где в концлагерях Третьего рейха – Бухенвальде, Дахау, Заксенхаузене, Майданеке, Маутхаузене, Освенциме, Равенсбрюке, Треблинке – и в других европейских странах уничтожались советские военнопленные.
В 1963 г. писатель-фронтовик Сергей Смирнов (1915 – 1976) опубликовал в издательстве «Молодая гвардия» документальное исследование «Рассказы о неизвестных героях», основанное на воспоминаниях, рассказах солдат, офицеров, оказавшихся в фашистском плену, а также насильно угнанных на работы в Западную Европу граждан СССР [10]. В 1958 г. писатель получил письма от бывших узников «лагеря смерти» Маутхаузена с рассказом о восстании в «блоке смерти» № 20. Как известно, в событии войны в силу исторических причин оставалось немало белых пятен. Поэтому «документально» рассказать об этом было и остается очень важной задачей и в ХХI столетии, так как «цепь документализма» – это канва событий документальной книги, множество фактов и «единство их идеального значения» [11].
С. Смирнов начинает документальный рассказ «Последний бой смертников» с религиозноэкзистенциального посыла к библейской легенде о рае и аде, к тому времени, когда люди мечтали создать рай на земле [12]. Но в ХХ в., в годы Второй мировой войны, оказалось, что люди способны создать земной ад, перед которым бледнеют все ужасы библейского ада. Это ад гитлеровских лагерей уничтожения, созданных СС и гестапо, организованных с немецкой хозяйственностью, с использованием всех достижений науки и техники и предназначенных для неслыханного и невиданного в истории человечества массового убийства людей.
Очевидно одно: не только для поколения «сороковых роковых», переживших события войны, но и для всех последующих поколений будут звучать страшные названия этих «лагерей смерти», но самым зловещим исчадием ада стал концлагерь Маутхаузен в предгорьях Австрийских Альп в 25 км от города Линца. В 1944 г. здесь был образован самый «высокопродуктивный» цех фабрики смерти – «блок смерти» № 20, или человеческая бойня, и «кто попадал в блок смерти, знали, что их гибель неизбежна, что она будет особенно долгой, полной страданий и придет к ним, сопровождая бесконечным изнурением и изощренным унижением тела и человеческой души. Недаром эсэсовцы издевательски говорили смертникам, что из этого блока можно выйти только через трубу крематория» [13, с. 147]. Только за вторую половину 1944 г. здесь было уничтожено более 6 тыс. человек, к началу 1945 г. в 20-м блоке осталось всего около 800 узников. Известно, что в «блоке смерти» главным образом содержались советские офицеры и политработники и для них был «создан такой режим, перед которым бледнеют все обычные ужасы Маутхаузена... Пленные, содержавшиеся в соседних бараках, каждый день слышали, как из-за этой 3,5-метровой стены доносились дикие, нечеловеческие крики истязуемых людей, крики, заставлявшие содрогаться даже их, многострадальных узников Маутхаузена» [14, с. 149].
В 1945 г. Красная армия с боями дошла до территории Польши, Венгрии, фронт постепенно приближался к Австрии. Советским военнопленным, узникам «блока смерти», стало очевидно, что вряд ли они смогут дожить до освобождения. Поэтому в лагере смерти велась подпольная политическая работа для внутренней мобилизации военнопленных перед «последним смертным боем» для проведения восстания и массового побега узников в ночь с 28 на 29 января 1945 г. Все было готово к восстанию, но произошло или роковое стечение обстоятельств, или трагическое совпадение, или предательство. В ночь на 25 или 26 января в барак нагрянули эсэсовцы, выкрикнули 25 номеров и 25 узников были уничтожены в крематории, среди них оказались главные руководители восстания: Николай Власов, Александр Исупов, Кирилл Чубченков и другие. Это стало тяжелым ударом для всех, казалось, восстание парализовано, но этого не случилось, и руководителем готовившегося побега стал майор Леонов. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 г. военнопленные «блока смерти» подняли восстание и совершили массовый побег. Узники, вырвавшиеся из лагеря, разбежались по окрестностям Маутхаузена, гитлеровцы приняли меры для того, чтобы поймать пленных, – в район лагеря было стянуто большое количество войск и частей СС с собаками, которые прочесывали местность. «Смертников вылавливали одного за другим. Одних убивали на месте или привязывали ногами к машине и волочили к лагерному крематорию, других собирали группами и вели в лагерь, расстреливая около крематория. Третьи – и таких было большинство – не давались живыми своим палачам и в последнем отчаянном порыве кидались на них с голыми руками… Они бросались душить эсэсовцев, впивались им в горло зубами и нередко успевали перед смертью убить одного из палачей. Во время этих облав эсэсовская охрана лагеря потеряла больше двадцати человек. Это не считая потерь местной полиции и войск, которые участвовали в облавах. А кроме того, следует прибавить и другие потери… некоторые эсэсовцы из охраны блока смерти были расстреляны за то, что допустили восстание и побег» [15, с. 177, 178]. Известно, что облавы продолжались больше недели, с каждым днем росли штабеля трупов около крематория. Гитлеровцы были уверены, что ни один из бежавших не уйдет, все будут пойманы и казнены; в конце концов объявили о том, что «счет сошелся». Подвиг смертников сподвиг Интернациональный подпольный комитет лагеря быстрее разрабатывать план будущей вооруженной борьбы. Победное восстание произошло 5 мая 1945 г. и стало прямым продолжением и завершением героической борьбы советских военнопленных «блока смерти» № 20.
На основании исторических документов С. Смирнов сообщает, что страшный лагерь Маутхаузен перестал существовать, и бывшие узники вернулись в свои страны, освобожденные Красной армией из-под власти фашистской Германии. Но, казалось, навсегда останется легендарным, лишенным всяких реальных подробностей, подвиг наших военнопленных «блока смерти». Некому было рассказать об этих подробностях – «счет сошелся», как говорили гитлеровцы, и предполагалось, что никого из участников трагического побега не осталось в живых. Но те, кто был в Маутхаузене, на всю жизнь сохранили память об этом событии [16, с. 152]. После войны стали известны имена семерых из тех двадцати, которые сумели стойко перенести все тяготы плена, пройти все круги фашистского ада, героически выстоять, спастись, выжить вопреки всему и подробно рассказать об этом.
История Великой Отечественной войны подтверждает, что на территории СССР пленные из армии вермахта не уничтожались в лагерях, а многие из них после окончания войны возвращались в Германию. Вот как описывает встречу с бывшим немецким солдатом, попавшим в плен на Курской дуге, участник войны, народный поэт Башкортостана Мустай Карим (1919 – 2005), 100-летие которого торжественно отметили на всем евразийском пространстве [17]: «Порою бывает так, что человек возьмет и за несколько минут выложит тебе самое главное в своей судьбе. Так случилось с Рихардом Лимпертом – шахтером Рура, писателем, автором горестной книги “Про Эриха. 1933 – 1953”, обложку которой “украшает” фото немецкого солдата, сидящего на орудийном лафете, обеими руками обхватив голову. Если не ошибаюсь, это знаменитое фото появилось после битвы на Курской дуге. Под ним, кажется, была надпись: “Все кончено”. Лимперт – сверстник того солдата. Совсем юношей попал в плен. “В Советском Союзе мне поменяли голову”, – заявил он через минуту после встречи. “Что, так сильно агитировали вас?” – усмехнулся я. “Нет, не агитацией, а состраданием, человеческим отношением к нам, – уточнил он. – Вот расскажу только один случай. В большом городе нас на работу сопровождала девушка с винтовкой. Пленным на работу не разрешалось ездить на трамвае. А девушка нам однажды разрешила. Когда вошли в трамвай, я увидел мальчика, который держал в руках два мороженых. “Дай попробовать, – сказал я неожиданно для себя. – Шесть лет не видел...”. Мальчик протянул мне одно мороженое. Пятнадцать человек по очереди попробовали его. Хватило всем. Девушка наша в это время отвернулась к окну и заплакала. Заплакала от жалости к нам. По щекам рассказчика тоже покатились слезы. – Вот таким образом поменяли мне голову”» [18, с. 41].
Известно, что в нацистской Германии была общая практика истребления всех: славян, цыган, военнопленных, и с особой жестокостью – советских офицеров и политработников. В немецком плену погибло минимум 2,5 млн советских солдат, умерло 1 300 000 советских граждан из числа тех, кто был угнан на рабские работы в Германию. На оккупированной территории РСФСР, Белоруссии, Украины, Прибалтики немцами уничтожено порядка 7,5 млн человек. В Ленинграде в результате немецкой блокады погибло около 1 млн мирных жителей – стариков, женщин, детей. Как ни прискорбно, все это не помешало появлению в июне 2016 г. на здании Военного инженерно-технического университета Санкт-Петербурга мемориальной «Доски Маннергейму», союзнику Третьего рейха, главнокомандующему финской армией в 1941–1944 гг., оккупировавшему всю Карелию, не штурмовавшему, но осуществлявшему блокаду, душившему Ленинград. А 2 июля 2016 г. Совет по мемориальным доскам при правительстве северной столицы признал эту установку незаконной.
Как известно, установки «досок», открытие мемориальных комплексов, снятие проблемы вины и т. д. с оккупантов, завоевателей, палачей, душителей и т. п. – всех низвергнутых, кто развязал Вторую мировую войну и активно участвовал в жестоких преступлениях, началось с ведущих политиков Западной Европы во второй половине ХХ в. В 1985 г., в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, руководители Германии и США демонстративно посетили кладбище в Битбурге, на котором похоронены эсэсовцы. А в 1993 г. был открыт центральный мемориал в ФРГ с памятником «жертвам войны и насилия», в равной степени охранникам СС и жертвам концлагерей Бухенвальда, Дахау, Освенцима и др. В 1993 г., по случаю юбилея Сталинградской битвы, произошел обмен Посланиями между руководством ФРГ и РФ. В них уже не употреблялись понятия агрессора и обороняющейся стороны и даже не говорилось о Победе и поражении – все стали одинаковыми «жертвами войны»: победители и низвергнутые, освободители и оккупанты, защитники и завоеватели, жертвы и палачи. По утверждению немецкого историка М. Хеттлинга, «в историографии и в общественном мнении утвердилось единство взглядов по двум пунктам: во-первых, со стороны германского рейха война преднамеренно задумывалась и велась как захватническая война на уничтожение по расовому признаку, во-вторых, инициаторами ее были не только Гитлер и нацистское руководство, – заметную роль в развязывании войны сыграли также верхи вермахта и представители частного бизнеса» [19].
Таким образом, по словам известного русского историка В.О. Ключевского, «история ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки» [20, с. 103]. В начале третьего тысячелетия мы вновь стоим перед выбором: отстаивать истину, придерживаться правды или отдать на попрание результаты Великой Победы нашей страны, «потому что болит у всех разное. И вы никогда не убедите никаких историков сказать: “Нет, ты встань на общую позицию и перестань защищать своих”» [21]. Но когда события самой кровавой войны за всю историю человечества рассматриваются в зависимости от «обмена Посланиями» между бывшими захватчиками и защитниками своего Отечества, то в этом, вероятно, может помочь только известная западно-либеральная модель, получившая широкий резонанс и ставшая главной в поиске истины системой и методом, – «капитализм и шизоанализ». В предисловии к американскому изданию данного исследования М. Фуко писал: «В период 1945 – 1965 гг. существовал определенный тип правильного мышления, определенный стиль политического дискурса, определенная этика интеллектуала… для высказывания или записи истины» [22], чего не скажешь обо всем последующем периоде 1965 – 2020 гг. «Истина как идеальное единство значений, усматриваемое в фактах, не исчезает вместе с фактами» [23], а факты событий Великой Отечественной войны приобретают глобальную значимость накануне 75-летия Победы и требуют фундаментального философского осмысления, поэтому, по мнению С. Кара-Мурзы, «в чем была суть… всего, что происходило в нашей стране после 1917 г., надо выкапывать самим» [24, с. 8]. Очевидно, что мы не учли глубину и не проникли в суть экзистенциально-онтологических и социально-экономических проблем СССР – РФ, что способствовало некоторому «кризису идентичности» (Дж. Уорд), особенно среди молодежи. «Выкапывать самим суть всего, что происходило» в Великой войне за Отечество – эта фундаментальная задача и святой долг всех перед поколением победителей 1941–1945 гг., памяти которых должны быть достойны все – от мала до велика, ибо «инстинкт общности» (К. Лоренц) еще никто не отменял. Следовательно, «инстинкт общности» в его привычном, естественном выражении предполагает человеческое участие и коллективную солидарность всех поколений, которые могут предотвратить возможность возникновения жестоких и кровопролитных войн, ибо ничего лучше, чем идея «Вечного мира» (И. Кант), проповедовавшаяся выдающимися умами человечества, нет и быть не может. И это конкретная истина.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья подготовлена в рамках реализации государственной программы «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама» в 2017 – 2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. № 2452-р, с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-р и от 8 июня 2018 г. № 1148-р «Организация и проведение методологических семинаров с целью обсуждения содержательных аспектов реализации программ подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама».
-
2. Уткин А.И. Вторая мировая война. М., 2003. 960 с.
-
3. Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию : антология / науч. ред. Л.Б. Комиссарова. М., 2001. С. 224 – 235.
-
4. Уткин А.И. Указ. соч. С. 41.
-
5. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков, 2003. 503 с.
-
6. Шолохов М. Судьба человека // Собрание сочинений : в 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 32–67.
-
7. Горький М. Жизнь Клима Самгина // Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 21. Ч. 1. 575 с.
-
8. Кьеркегор С. Страх и трепет / пер. с дат., коммент. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева ; общ. ред., сост. и предисл. С.А. Исаева. М., 1993. 382 с.
-
9. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / пер. с нем. А.И. Федорова. М., 2019. 478 с.
-
10. Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. 224 с.
-
11. Гуссерль Э. Философия как строгая наука / пер. с нем., сост. и подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск, 1994. 357 с.
-
12. Смирнов С. Указ. соч.
-
13. Там же. С.147.
-
14. Там же. С.149.
-
15. Там же. С. 177, 178.
-
16. Там же. С.152.
-
17. Хусаинова А.Х. Экзистенция свободы выбора (философский анализ). Уфа, 2010. 228 с.
-
18. Карим М. Притча о трех братьях: воспоминания, раздумья, беседы. М., 1988. 367 с.
-
19. Хеттлинг М. Новая германская литература о Сталинграде // Отечественная история. 1995. № 6. С. 87 – 95.
-
20. Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. М., 1988. Т. 3. 414 с.
-
21. Аннинский Л. Мы можем воевать только за правду: цикл дискуссий // Литературная газета. 2010. 10 окт. № 35. С. 2.
-
22. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Д. Кралечкина. Екатеринбург, 2007. 670 с.
-
23. Гуссерль Э. Указ. соч.
-
24. Кара-Мурза С. Февральские тезисы. К столетию уничтожения Российской империи [Электронный ресурс] // Завтра.
2017. 16 февр. № 7 (1211). URL:
(дата обращения: 12.12.2019).
Список литературы Онтология социальной памяти о войне и проблема экзистенциальной идентичности в воспитании молодежи в начале ХХI в.
- Статья подготовлена в рамках реализации государственной программы «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама» в 2017-2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. № 2452-р, с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-р и от 8 июня 2018 г. № 1148-р «Организация и проведение методологических семинаров с целью обсуждения содержательных аспектов реализации программ подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама»
- Уткин А.И. Вторая мировая война. М., 2003. 960 с
- Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию: антология / науч. ред. Л.Б. Комиссарова. М., 2001. С. 224-235
- Уткин А.И. Вторая мировая война. М., 2003. С. 41.
- Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков, 2003. 503 с
- Шолохов М. Судьба человека // Собрание сочинений: в 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 32-67
- Горький М. Жизнь Клима Самгина // Полное собрание сочинений. М., 1974. Т. 21. Ч. 1. 575 с
- Кьеркегор С. Страх и трепет / пер. с дат., коммент. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева; общ. ред., сост. и предисл. С.А. Исаева. М., 1993. 382 с
- Лоренц К. Оборотная сторона зеркала / пер. с нем. А.И. Федорова. М., 2019. 478 с
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. 224 с
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука / пер. с нем., сост. и подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск, 1994. 357 с
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. 224 с
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. С. 147.
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. С. 149.
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. С. 177, 178.
- Смирнов С. Рассказы о неизвестных героях. М., 1963. С. 152.
- Хусаинова А.Х. Экзистенция свободы выбора (философский анализ). Уфа, 2010. 228 с
- Карим М. Притча о трех братьях: воспоминания, раздумья, беседы. М., 1988. 367 с
- Хеттлинг М. Новая германская литература о Сталинграде // Отечественная история. 1995. № 6. С. 87-95
- Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М., 1988. Т. 3. 414 с
- Аннинский Л. Мы можем воевать только за правду: цикл дискуссий // Литературная газета. 2010. 10 окт. № 35. С. 2
- Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Д. Кралечкина. Екатеринбург, 2007. 670 с
- Гуссерль Э. Философия как строгая наука / пер. с нем., сост. и подгот. текста и примеч. О.А. Сердюкова. Новочеркасск, 1994. 357 с
- Кара-Мурза С. Февральские тезисы. К столетию уничтожения Российской империи [Электронный ресурс] // Завтра. 2017. 16 февр. № 7 (1211). URL: http://zavtra.ru/blogs/fevral_skie_tezisi (дата обращения: 12.12.2019)