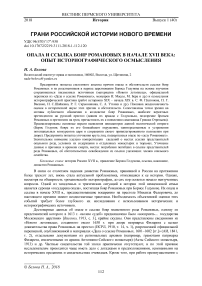Опала и ссылка бояр Романовых в начале XVII века: опыт историографического осмысления
Автор: Белова Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Грани российской истории нового времени
Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка системного анализа причин опалы и обстоятельств ссылки бояр Романовых и их родственников в период царствования Бориса Годунова на основе изучения сохранившихся письменных источников (материалов "Нового летописца", официальной переписки из "Дела о ссылке Романовых", мемуаров И. Массы, М. Бера и др.) и осмысления историографической практики (работ историков XIX - начала XIX в. С. Ф. Платонова, П. Г. Васенко, Н. С.Шайжина, Р. Г. Скрынникова, С. А. Уткина и др.). Показана неоднозначность оценок в исторической науке этих причин и обстоятельств. Сопоставлены точки зрения на мотивы публичного обвинения в колдовстве бояр Романовых, наиболее вероятных претендентов на русский престол (давняя их вражда с Годуновым, подозрение братьев Романовых в претензиях на трон, причастность их к появлению самозванца Гришки Отрепьева). Проанализированы основные версии выявления инициаторов данной политической интриги (Борис Годунов; бояре из его ближайшего окружения, заинтересованные в устранении потенциальных конкурентов царя и сохранении своего привилегированного положения при дворе). Предпринята попытка уточнения круга лиц, подвергшихся опале по "делу Романовых". Значительное внимание уделено конкретизации сведений о местах ссылки представителей опального рода, условиях их содержания в отдаленных монастырях и тюрьмах. Уточнены данные о причинах и времени смерти, местах погребения погибших в ссылке представителей рода Романовых, об обстоятельствах освобождения из ссылки уцелевших членов опального семейства.
История России xvii в, правление бориса годунова, ссылка, наказание, династия романовых
Короткий адрес: https://sciup.org/147203845
IDR: 147203845 | УДК: 94(470)"17":930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-112-120
Текст научной статьи Опала и ссылка бояр Романовых в начале XVII века: опыт историографического осмысления
В связи со столетием падения династии Романовых, правившей в России на протяжении более трехсот лет, вновь стала актуальной проблематика, относящаяся к ее истории. Однако, несмотря на обширность «романовской» историографии, до сих пор остается немало неизученных вопросов. Одной из загадочных и трагических ситуаций в истории этой венценосной семьи является суровая «государева опала», постигшая бояр Романовых при Борисе Годунове. Их опала и ссылка в начале XVII в., предшествовавшие воцарению на престоле Михаила Федоровича, до настоящего времени имеют неоднозначные трактовки. Необходимость объективной оценки этих событий требует более глубокого их исследования с использованием исторических и историографических источников.
Достоверные данные об опале и ссылке бояр знаменитого рода Романовых, одному из представителей которого в 1613 г. «волею судеб» предназначено было «восприять… государства Московскаго царствия» [ Васенко , 1913, с. 3], крайне скудны. Они представлены сведениями из «Нового летописца», созданного около 1630 г. при дворе патриарха Филарета с целью доказательства права Романовых на престол (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1), разрозненной официальной перепиской, опубликованной в материалах «Дела о ссылке Романовых. 1601–1602 [гг.]» (АИ, 1841, т. 2), отдельными документами из региональных архивов (например, грамотами патриарха Филарета, извлеченными из архива Антониево-Сийского монастыря) (Акты Сийского монастыря, 1913) и др. Частные свидетельства той эпохи практически отсутствуют, и по этой причине исследователям приходится чаще иметь дело с догадками и предположениями, основанными на исторических преданиях и свидетельствах очевидцев. Кроме того, при работе преимущественно с
косвенными доказательствами важная роль отводится максимально полному изучению трудов своих предшественников.
Согласно «Известию о начале патриаршества в России…» (1619 г.) первоначально Борис Годунов «явися кротокъ и милостивъ, и ко всемъ человеколюбие и милосердие имея» (Доп. к АИ, 1846, с. 194) и его отношения с Романовыми были хорошими. Однако вскоре новый царь, «отъ багряницы возгордя» и «советника и помогателя царствию не восхоте никого же, ниже отъ великихъ и превосходящихъ въ чести равна себе кого имети» (Там же, с. 194), резко сменил милость на гнев и братьев царя Федора Иоанновича по матери, единственных живых его родственников, «напрасныемъ заточениемъ… осуди» (Там же, с. 195).
Суровая расправа Бориса Годунова с Романовыми, по мнению Р. Г. Скрынникова, была обусловлена тем, что, будучи ближайшими родственниками Федора Ивановича, последнего царя из династии Ивана Калиты, они по сравнению с «худородным» царем «имели несравненно больше прав на трон» [ Скрынников , 1985, с. 21]. Именно Романовы, считает историк, были самыми опасными из соперников Годунова во время его «избирательной кампании» и позднее, когда во время серьезной болезни царя борьба за трон возобновилась и они стали представлять «наибольшую угрозу для неокрепшей династии» [Там же, с. 21].
О том, что подозрения Годунова в отношении претензий Романовых на престол не были беспочвенны, свидетельствует, в частности, факт, упомянутый в «Летописи Московской» немецкого протестантского пастора Мартина Бера, жившего в России более двенадцати лет. По его воспоминаниям, в 1597 г. умирающий Федор Иванович предлагал царствовать «старшему изъ Никитичей, Феодору, имевшему на престолъ ближайшее право; Феодоръ Никитичъ отказался отъ Царскаго скипетра и уступалъ его брату своему Александру; Александръ предлагалъ сию честь другому брату, Ивану; Иванъ третьему брату, Михаилу, а Михаил какому-то знатному Князю, так, что никто не бралъ скипетра» (Сказания современников…, 1831, ч. 1, с. 5).
Известные источники не позволяют оценить искренность отказа Романовых от трона. В этой связи весьма любопытен портрет патриарха Филарета из Коломенского дворца, переданный в 1860х гг. для хранения в Оружейную палату. На холсте, восстановленном в своем «первобытном виде» художником Д. А. Струковым, Филарет изображен в царском облачении, а на обратной стороне портрета обнаружена надпись «Царь Федоръ Микитичъ», сделанная предположительно в XVII в. [Замечательный портрет…, 1866, с. 349]. Хотя не исключено, что портрет на самом деле имеет более позднее происхождение и никоим образом не связан с личными намерениями Федора Романова.
По мнению П. Г. Васенко, вопреки долго существовавшему представлению об «исконной вражде» между Годуновым и Романовыми, «отношения ихъ долго не оставляли желать ничего лучшаго» [ Васенко , 1913, с. 58]. Царский шурин, выполняя «завещательный завет», данный своему «благожелателю» Никите Романову, имел о его «чадехъ соблюдение» [Там же, с. 58].
Ввиду недостаточности данных причина возникновения вражды между Годуновым и братьями Романовыми до настоящего времени остается невыясненной. Так, упомянутый ранее Мартин Бер полагал, что Романовы были «раздражены» поступками царя Бориса в отношении «изменника» Богдана Бельского1, но «таили свою злобу, и всегда казались покорными» (Сказания современников…, 1831, ч. 1, с. 30). Тем не менее наученные неудачей Бельского «зложелатели Борису» замыслили «инымъ средствомъ избавиться отъ Годунова – отравою» (Там же, с. 30).
Другой очевидец событий Смутного времени в Московском государстве, голландский торговец и дипломат Исаак Масса, предполагал, что умысел в расправе над Романовыми исходил от царя. Как он сообщал в своих мемуарах, «в ноябре 1600 г. Борис велел нескольким негодяям обвинить Федора Никитича…, и его братьев Ивана, Михаила и Александра с их женами, детьми и родственниками…, что будто бы они все вместе согласились отравить царя и все его семейство» ( Масса , 1937, с. 53).
Эта же точка зрения, которая в дальнейшем стала официальной, изложена в «Новом летописце», составленном в царствование Михаила Федоровича и при патриархе Филарете, и, по мнению П. Г. Васенко, не без участия последнего [ Васенко , 1913, с. 71]. По сведениям данного источника причиной опалы Романовых стал злой умысел Годунова по изведению «царского корня». Первой его жертвой был царевич Дмитрий, а после смерти Федора Иоанновича он замыслил «царское последнее сродствие известь» в лице братьев Романовых и их родственников
(ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 53). Для достижения своей цели Годунов прибегнул к обвинению опасных соперников в использовании «ведовства и кореньев» для его устранения. Однако первоначально попытки обвинить братьев Романовых в колдовстве оказывались неудачными: их люди даже под пытками не давали признательных показаний («на государей своихъ ничево не говоряху»), пока такую мысль не «вложи врагъ въ раба въ Олександрова человека Никитича во Второво Бартенева» (Там же, с.53).
Холоп и казначей Александра Романова Бартенев Второй добровольно и тайно явился к ведавшему политическим сыском окольничему С.Н. Годунову со словами: «что царь повелитъ зделать надъ государи моими, то и сотворю» (Там же, с. 53). Окольничий доложил об этом разговоре самому царю, и последний высказал свое пожелание по данному поводу. В итоге Семен Годунов по договоренности со Вторым Бартеневым «наклаша всяково корения въ мешки, и повеле ему положити въ казну Александра Никитича». Бартенев выполнил требуемое, а царь направил к Романовым с обыском окольничего Михаила Салтыкова. Мешки были изъяты и доставлены на двор патриарха Иова, где из них в присутствии специально собранных людей «корения» были выложены на стол как изъятые у Александра Романова, а «довотчик» Бартенев «поставиша... въ свидетели». Туда же были доставлены Федор Никитич «зъ братьею», которые «неведаху въ себе никакие вины» (Там же, с. 53). Публично обвиненные в колдовстве Романовы и их «сродники» были посажены «за приставы» (Там же, с. 53).
В июне 1601 г. братья Федор, Александр, Михаил, Иван и Василий Никитичи Романовы были признаны боярским судом виновными в заговоре против государя («помышляше въ себе, что изведе царский корень») (Там же, с. 52). По боярскому приговору и указу царя Бориса их в июле 1601 г. «съ Москвы посылаше по городомъ и монастыремъ» (Там же, с. 53).
В версии «Нового летописца», касающейся дела Романовых, по мнению П. Г. Васенко, наряду с тенденцией «выставить Бориса съ самой черной стороны, а Никитичей въ роли не только невинныхъ, но и сознательно погубленныхъ... жертвъ» наличествует ряд умолчаний и противоречий. Например, не ясно, какую роль придавал Годунов «кореньям», почему улики преступления обнаружены на дворе у Александра, а наказали всех братьев Романовых и их родственников [ Васенко , 1913, с. 72].
В этой связи весьма интересна мысль С. Ф. Платонова о том, что в деле Романовых Годунов с боярами «доискался чего-то более серьезнаго», поскольку «одни волшебные корешки, безъ другихъ уликъ», не могли послужить достаточным основанием для обвинения целого круга родственных лиц, «влиятельныхъ и популярныхъ, связанныхъ узами кровнаго родства съ только что угасшей династией» [ Платонов, 1901, с. 187].
По мнению историка, предметом обвинения служило «не простое ведовство, а нечто более сложное, выходившее за пределы личнаго или узко-семейнаго поступка» [Там же, с. 187]. Косвенные доказательства этому, как полагает С. Ф. Платонов, содержит инструкция, данная приставам, сопровождавшим «изменников» к месту ссылки: «писать государю про тайныя государевы дела, что проявится отъ его государевыхъ злодеевъ и изменниковъ» [Там же, с. 187]. Более того, ученый высказывает предположение о том, что «не сколько самому Борису, сколько боярамъ его принадлежало первенство въ преследовании Романовскаго круга» [Там же, с. 187]. В подтверждение своей позиции С. Ф. Платонов приводит сведения «Нового летописца» о том, что во время публичного обвинения А. Романова «бояре многие на нихъ, аки зверие, пыхаху и кричаху» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 53), а также упоминает о размышлениях братьев Романовых в ссылке о причинах опалы. Так, по данным историка, Федор Никитич, находясь в Сийском монастыре, сообщил наблюдавшему за ним приставу Богдану Воейкову: «Бояре мне великие недруги, искали головъ нашихъ, а иные научали на насъ говорить людей нашихъ» [ Платонов , 1901, с. 188], а сосланный в Яранск Василий Никитич жаловался своему приставу Ивану Романову: «.Погибли деи мы внапрасне, ко Государю въ наносъ отъ своей братии бояръ, а они деи на насъ наносили къ Государю не узнась, сами деи они помрутъ прежде насъ» (АИ, 1841, т. 2, с. 41). Такое поведение бояр «годуновского круга» в отношении семьи Романовых, по мнению С. Ф. Платонова, не было проявлением личной злобы или мести с их стороны, а объяснялось политическими мотивами этих лиц, возвысившихся при царе Борисе и боявшихся усиления влияния бояр, враждебных Годунову и не смирившихся с его воцарением [ Платонов , 1901, с. 188].
При наличии официальных документов 1605–1607 гг. историк не отрицает того факта, что причиной опалы Романовых стала их причастность к появлению самозванца Гришки Отрепьева, который «былъ въ холопехъ у бояръ у Никитиных детей Романовича и у князя Бориса Черкаскаго и, заворовався, постригся въ чернцы» [Там же, с. 188]. Вместе с тем С. Ф. Платонов отмечает, что обвинение братьям Романовым было выдвинуто не в подготовке самозванца, а в том, что они хотели себе «достать царства». В этой связи поспешное пострижение в монашество Федора Никитича, как наиболее достойного претендента на престол, по мнению историка, подтверждает, что «обвинение въ желание достать царство старшему Романову не было вымысломъ, за которымъ Борисъ желалъ скрыть действительное обвинение въ подготовке Самозванца» [Там же, с. 189]. Итогом всех размышлений историка стал вывод о том, что «дворцовая интрига», лежащая в основе дела Романовых, явилась орудием борьбы «небольшого кружка дворцовой знати за власть и престолъ» [Там же, с. 191].
Данную точку зрения разделяет А. Воскресенский, автор введения к «Актам Сийского монастыря», изучавший материалы о ссылке Федора Никитича в эту обитель. Он склонен считать, что главную роль в деле Романовых сыграли «происки бояръ, опасавшихся слишкомъ быстраго возвышения блестящаго вельможи» (Акты Сийского монастыря, 1913, с. 4).
Единственным сравнительно подробным и связным рассказом той эпохи о событиях, относящихся к ссылке Романовых, несмотря на все недомолвки и неясности, остается повествование «Нового летописца». Сопоставляя его с другими источниками и обращаясь к исследованиям, затрагивающим рассматриваемую проблематику, попытаемся проанализировать сведения об обстоятельствах ссылки опального семейства.
Так, по рассказам «Нового летописца» Федора Никитича, старшего из братьев Романовых, государь «посла съ Ратманомъ Дуровымъ въ Сийский монастырь2 и повеле его тамъ постричь», и там тот «неволею бысть постриженъ» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 53). Судя по уцелевшим актам, приставленного к старцу Филарету сторожа Дурова вскоре сменил Богдан Воейков, которому согласно царскому указу от 3 декабря 1603 г. предписывалось обходиться со ссыльным снисходительно: «покой всякой къ нему держать, чтобъ ему ни въ чемъ нужи не было» (АИ, 1841, т. 2, с. 52). Вместе с тем, чтобы порвать всякую связь опального с внешним миром, приказывалось смотреть за ним «накрепко», чтобы «къ старцу Филарету къ келье никто не подходилъ, и съ нимъ ничего не говорилъ, и письма ни отъ кого никакого не подносилъ» (Там же, с. 52).
Воейков на своем посту проявлял особое усердие, его служебное рвение проявлялось в частных доносах царю на «государева изменника», которые создавали последнему «всевозможныя стеснения» (Акты Сийского монастыря, 1913, с. 6). Так, в ответ на очередной донос пристава, основанный на жалобах старцев Илинарха и Леонида о «безчинствах» ссыльного, игумен Сийского монастыря Иона получил царскую грамоту, датированную 16 марта 1605 г., в которой предписывалось усилить строгость его содержания. С этой целью повелевалось обновить ограду монастыря, запретить свободный доступ богомольцев на территорию обители, а самого старца Филарета перевести в келью к игумену, чтобы он был у того «въ послушании и жил бы по монастырскому чину, а не безчинствовалъ» (Там же, с. 2).
Старец Филарет был освобожден из монастыря вскоре после смерти Бориса Годунова, последовавшей в апреле 1605 г. Сразу по возвращении он был назначен митрополитом на Ростовскую кафедру, освободившуюся после вынужденного ухода митрополита Кирилла (Там же, с. 11). Дальнейшая его судьба хорошо известна.
Второго из братьев Романовых, Александра, по данным «Нового летописца», в сопровождении пристава Леонтия Лодыженского «сосла къ Стюденому морю, къ Усолью, рекомая Луда3», и «затвориша въ темницу» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 54). Там вскоре по повелению царя «Левонтей... ево удушилъ». Александр «погребенъ бысть на Луде» (Там же). И. Масса изложил свою, весьма сомнительную историю ссылки и гибели опального боярина. По его рассказу «Александра, которого… давно ненавидел, Борис велел отвезти на Белоозеро, вместе с маленьким сыном Федором; и велел там истомить Александра в горячей бане, но ребенок заполз в угол…, остался жив…, и люди, взявшие его к себе, сберегли его» ( Масса , 1937, с. 53). Весомым аргументом в пользу первой, официальной, версии является информация И. М. Снегирева о том, что 15 марта 1606 г. прах Александра Романова, который «преставися въ заточении от Царя Бориса,
Кирилова монастыря въ вотчине на Луде», перевезенный по указанию Лжедмитрия I в Москву, был захоронен в Новоспасском монастыре, в усыпальнице Романовых [ Снегирев , 1843, с. 131].
Как свидетельствует «Новый летописец», Михаил Романов в сопровождении пристава Романа Тушина был «сославъ Пермь Великую и повелелъ ему зделати тюрму отъ града семь поприщь4, и тамъ удавиша, и погребенъ бысть тамъ въ пустомъ месте» (ПСРЛ, 1910, т. 14. ч. 1, с. 54). Иное объяснение гибели опального боярина дает В. Н. Берх. Согласно его версии Михаил был доставлен к месту своего заточения в деревню Ныроб около города Чердыни зимой 1601 г. в сопровождении Романа Тюшина (будущего воеводы) и шести сторожей, «кои принялись немедленно выкапывать… яму», оставив в ней «только малое отверзтие для света» [ Берх , 1821, с. 99–100]. В эту «землянку» и посадили Михаила Никитича. Через некоторое время, когда морозы усилились, в землянке была сделана маленькая печь. «Въ семъ положении сиделъ всю зиму несчастный Бояринъ... Михаилъ Никитичъ просидевъ только годъ въ подземелье, окончилъ дни свои» [Там же, с. 101]. Неоднократное посещение В. Н. Берхом «пещеры» Михаила Романова, а также рассказы сопровождавшего его «древнего чердынца» Максима Пономарева, которого историк именовал не иначе как «ходячий памятникъ всехъ Ныробскихъ происшествий», убедили его в «ненасильственной смерти» Михаила Романова и даже вызвали удивление тем, что «злосчастному» узнику удалось прожить год в «такой тесной и сырой яме». Более того, приведенные доводы позволили В.Н. Берху не только усомниться в местном предании о том, что Михаила Никитича «уморили с голоду» тюремные сторожа, но и отрицать версию Г. Ф. Миллера, согласно которой опальный вельможа, содержавшийся в темнице, «вскоре… былъ удавленъ» [Там же, с.101–102]. Правда, историк не упомянул о месте погребения Михаила Романова, однако сообщал, что в 1607 г. его тело «увезли… въ Москву, и положили у Спаса на Новомъ» [Там же, с. 102]. По данным И. М. Снегирева, он был погребен «у Николы Чудотворца въ Нырпу на погосте», а его останки доставлены в столицу не в 1607, а в 1606 г. и 18 марта были перезахоронены в родовую усыпальницу Романовых Новоспасского монастыря [ Снегирев , 1843, с. 131].
Следует отметить, что упомянутые источники весьма убедительно опровергают маловероятную информацию И.Массы о том, «Михаил и Иван были отправлены в злосчастную ссылку: один на Волгу, другой на татарскую границу» ( Масса , 1937, с. 53).
По данным «Нового летописца» Ивана Романова «посла въ Сибирский городъ въ Пелымъ съ Смирнымъ Маматовымъ» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1. с. 54). Судя по материалам «Дела о ссылке Романовых», одновременно с братом из столицы в Яранской город5 «на житье» был вывезен Василий Романов (АИ, 1841, т. 2, с. 35). Правда, он пробыл там недолго. Спустя шесть недель пребывания в Еранске (Там же, с. 34) стрелецкий сотник Иван Некрасов, сопровождавший опального боярина в ссылку, получил «государеву грамоту», которой предписывалось подопечного «отвезти въ Сибирь, въ Пелымской городъ, на житье» (Там же, с. 39–40). Доставив В.Н. Романова в Пелым, И. Некрасов передал опального боярина «толко чуть жива, на чепи» пелымскому стрелецкому голове С. Ю. Маматову. Тот «посадилъ Василья Романова съ братомъ, съ Иваномъ, въ одной избе, въ чепяхъ же по угломъ», а сотника «отпустилъ къ Москве» (Там же, с. 42). По свидетельству С. Маматова, 20 ноября 1601 г. он принял «государева изменника Василья Романова… больна, толкочють жива, на чепи, опохъ съ ногъ … для болезни его чепь съ него снялъ; и сиделъ… у него братъ его Иванъ да человек ихъ Сенька» (Там же, с. 42). 15 февраля 1602 г. Василий Романов скончался и был погребен в Пелыме. Иван также был болен «старою болезнью, рукою не владеетъ, на ногу Маленко приступаетъ» (Там же, с. 42). Иная версия пребывания в Пелыме Василия и Ивана Романовых изложена в «Новом летописце»: «…Да къ тому же къ Смирному посла Василья Никитича съ сотникомъ стрелецкимъ съ Иваном Некрасовым. Тамъ же Василья Никитича удавиша, а Ивана Никитича моряху гладомъ; Богъ же видя ево правду и душу его укрепи» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 54). Согласно данным «Русского биографического словаря» по требованию Лжедмитрия I, пожелавшего «выказать внимание не только къ живымъ, но и къ умершимъ членамъ семьи Романовых, своихъ мнимыхъ родственниковъ», 31 декабря 1605 г. в Пелым была направлена грамота, предписывавшая извлечь гроб опального вельможи из земли и передать его людям, присланным из столицы. Это было осуществлено: «тело Василия Никитича было привезено въ Москву и погребено въ Новоспасскомъ монастыре» [Русский биографический словарь, 1918, т. 17, с. 25].
Как свидетельствуют документы из «Дела о ссылке Романовых», дальнейшую судьбу Ивана Романова предрешила «царская милость». 28 марта 1602 г. С. Маматов получил новый указ Б. Годунова, предписывавший перевезти Ивана Романова в Уфу, а спустя два месяца царь помиловал ссыльного: ему было приказано «быти на нашей службе въ Нижнемъ Новгороде» (АИ , 1841, т. 2, с. 43). Правда, ввиду обострившейся прежней болезни И. Романов был доставлен туда лишь 25 июля 1602 г. (Там же, с. 45). 8 октября царь направил в Нижний Новгород новую грамоту, повелевавшую доставить ссыльного в Москву, что и было исполнено 17 ноября 1602 г. (Там же, с. 50).
Помимо «государевых злодеев и изменников» братьев Романовых были подвергнуты опале их многочисленные родственники. Так, по уточненным С.А.Уткиным данным, в июле 1601 г. были доставлены на Белоозеро в сопровождении приставов князь Борис Камбулатович Черкасский с женой Марфой Никитичной (сестрой братьев Романовых) и их дочерью Ириной, жена Александра Романова Ульяна Семеновна с детьми, малолетние дочь Татьяна и сын Михаил (будущий основатель новой царской династии) Федора Романова, а также его младшая сестра Анастасия [ Уткин, 2003, с. 68].
Местом размещения ссыльных была определена опальная тюрьма в центре Белозерского посада, где они находились под охраной двух приставов. Содержание их обеспечивалось за счет казны. Но ввиду удаленности места ссылки от столицы деньги на расходы поступали с опозданием и указание царя «чтобъ имъ всемъ въ естве и въ питье и въ платье никоторыя нужи не было» (АИ, т. 2, с. 47) исполнялось не в полной мере. Супруги Черкасские в ссылке заболели «камчюгом»6, который сопровождался сильными болями в суставах и животе (Там же, с. 46). Князь Б. К. Черкасский от этой болезни и умер в конце апреля 1602 г. [ Уткин, 2003, с. 73]. Остальные белозерские ссыльные после выбытия из политической борьбы наиболее активных противников Годунова были помилованы. По указу царя от 5 сентября 1602 г. их перевели в село Клин Юрьев-Польского уезда, в вотчину Ф. Н. Романова [Там же, с. 75].
Ивана, сына Бориса и Марфы Черкасских по сведениям «Нового летописца» «сославъ тюрму въ Еранескъ» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 54). Согласно «Делу о ссылке Романовых» молодой князь Черкасский был послан в ссылку на житье в Малмлыж7, откуда он одновременно с дядей Иваном Романовым был «пожалован» государем и по указу царя от 28 мая 1602 г. переведен на службу в Нижний Новгород, а затем доставлен в Москву (АИ, 1841, т. 2, с. 43, 50).
Судя по краткому повествованию «Нового летописца», супруга Федора Романова, Оксинья (Ксения) Ивановна, насильно постриженная в монашество, зимой 1601 г. была «посла въ Заонежские погосты» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 54). Ей, великой старице-инокине Марфе, как сообщал краевед Н. С. Шайжин, пришлось провести пять лет в заточении в «Обонежской пятине, в Выгозерском стану, на Толву» [ Шайжин , 1912, с. 3].
Теща Ф.Н. Романова, боярыня Мария Шестова8, согласно материалам из «Дела о ссылке Романовых» в июле 1601 г. была отправлена в «Чебоксаръ, въ Николской девичь монастырь», где ее велено было постричь (АИ, 1841, т. 2, с. 36). С. И. Выйкин, опираясь на документы регионального архива Чувашии, пришел к выводу, что Мария Шестова скончалась вскоре после пострига, который состоялся в упомянутой обители 2 августа 1601 г. [ Выйкин, 2011].
По данным «Нового летописца» за князем Иваном Васильевичем Сицким (женатым на сестре братьев Романовых Евфимии), астраханским воеводой, царь «послашавъ Острохань и повелеша привести его къ Москве съ княгинею и зъ сыномъ…сковавъ» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 53). Затем «князя Ивана со княгинею посла съ Тимохою Грязнымъ въ Кожеозерской монастырь9, а княгиню евовъ пустыню, и повелелъ ихъ тамъ пострищи, да удавиша ихъ обоихъ въ томъ же месте» (Там же, с. 54). По сведениям, собранным и обобщенным Н. Н. Селифонтовым, Евфимия Никитична (в иночестве Евдокия), содержалась в Сумском остроге, где и умерла 8 апреля 1602 г. Впоследствии ее прах по повелению царя Михаила Федоровича был перевезен в Москву и 27 марта 1617 г. «положенъ въ Новоспасскомъ монастыре» (Сборник материалов…, 1901, с. 295). Ее супруг, Иван Сицкий, в монашестве Сергий, отбывая ссылку в Кожеозерском монастыре, скончался 25 марта 1608 г. Их сын князь Василий не был пострижен, жил в той же обители или поблизости от нее, а после смерти отца был «вызванъ въ Москву и на дороге умервщленъ» [Русский биографический словарь, 1904, т. 18, с. 521].
Других «сродичев» Романовых (Репниных, Карповых, молодых Сицких) царь «разосла по городамъ и темницамъ, вотчины ихъ и поместья все велелъ роздати въ роздачю, а животы ихъ и дворы повеле роспродати на себя» (ПСРЛ, 1910, т. 14, ч. 1, с. 54). Так, по упомянутым Н. Н. Селифонтовым данным, князь Александр Репнин в конце июля 1601 г. был увезен в Уфу (Сборник материалов…, 1901, с. 306).
Опала в отношении уцелевших представителей рода Романовых была окончательно прекращена после смерти Бориса Годунова.
Таким образом, имеются существенные наработки в исследовании опалы и ссылки бояр Романовых и их родственников в начале XVII столетия. Однако ввиду скудности источниковой базы, наличия в уцелевших письменных источниках фактологических несоответствий, а также из-за возникновения некоторых сомнений в объективности историков причины и обстоятельства опалы и ссылки бояр определялись по-разному. Для уточнения обстоятельств опалы бояр Романовых, создания целостной объективной картины пребывания представителей этого семейства в ссылке необходимы поиск, введение в научный оборот и анализ материалов региональных архивов, подтверждающих или опровергающих известные исторические источники и мнения исследователей.
Список литературы Опала и ссылка бояр Романовых в начале XVII века: опыт историографического осмысления
- Берх В. Н. Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей. СПб.: Б.и., 1821. 234 с
- Васенко П. Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Феoдоровича. СПб.: Б. и., 1913. 224 с
- Выйкин С. И. Архивные документы и раритетные издания по истории династии Романовых в Государственном историческом архиве Чувашской Республики. Чебоксары, 2011. URL: http://www.gia.archives21.ru/novelty.aspx?id=123 (дата обращения: 27.04.2017)
- Замечательный портрет патриарха Филарета//Русский архив. 1866. Вып. 1. С. 348 -349
- Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). СПб.: Б.и., 1901. 520 с
- Русский биографический словарь: в 25 т. Т. 17: Романова -Рясовский/под ред. Б. Л. Модзалевского. Пг.: Б. и., 1918. 817 с
- Русский биографический словарь: в 25 т. Т. 18: Сабанеев -Смыслов/под набл. А. А. Половцова. СПб.: Б.и., 1904. 673 с
- Скрынников Р. Г. Социально -политическая борьба в Русском государстве в начале XVII в. Л.: Изд -во ЛГУ, 1985. 327 с
- Снегирев И. М. Новоспасский монастырь. М.: Б.и., 1843. 142 с
- Уткин С. А. Белозерская ссылка бояр Романовых в 1601-1602 гг.//Кириллов: краеведческий альманах. Вологда: Легия, 2003. Вып. 5. С. 6 8 -80
- Шайжин Н. С. Заонежская заточница, Великая Государыня инокиня Марфа Ивановна, в мире боярыня Ксения Ивановна Романовна, мать царя Михаила Федоровича. Петрозаводск: Б. и., 1912. 18 с