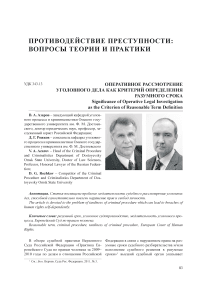Оперативное рассмотрение уголовного дела как критерий определения разумного срока
Автор: Азаров В.А., Рожков Д.Г.
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Противодействие преступности: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 2 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме медлительности судебного рассмотрения уголовных дел, способной самостоятельно повлечь нарушение прав и свобод личности.
Разумный срок, уголовное судопроизводство, медлительность уголовного процесса, европейский суд по правам человека
Короткий адрес: https://sciup.org/14317563
IDR: 14317563 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Оперативное рассмотрение уголовного дела как критерий определения разумного срока
Reasonable term, criminal procedure, tardiness of criminal procedure, European Court of Human Rights.
В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации «Практика Европейского Суда по правам человека за 2009– 2010 годы по делам в отношении Российской
Федерации в связи с нарушением права на разумные сроки судебного разбирательства и/или исполнение судебного решения в разумные сроки»1 высший судебный орган указывает на такой критерий, как значение оперативного рассмотрения дела для заявителя. Какое-либо особое значение для заявителя медлительность судебного рассмотрения уголовного дела в суде приобретает, как представляется, в том случае, если чрезмерное увеличение сроков затрагивает наиболее важные права и свободы личности.
Перечень прав и свобод человека и гражданина достаточно обширен. Каждое входящее в него положение, несомненно, является значимым для его носителя. Однако толкование обозначенного критерия охватывает, по нашему мнению, наиболее существенные права и свободы, к которым относятся: а) право на свободу и личную неприкосновенность; б) уважение чести и достоинства личности; в) право собственности. Как отмечает В. М. Лебедев, праву на свободу и личную неприкосновенность придается особое значение: «В документах Комиссии по правам человека при ООН подчеркивается, что свобода и личная неприкосновенность являются основой для защиты всех других свобод человека»2.
Увеличение периодов расследования и судебного разбирательства дела зачастую нарушает обозначенное право лица, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Такая ситуация просматривается по большинству жалоб на нарушение разумного срока судебного разбирательства уголовного дела и чрезмерно длительного содержания лица под стражей.
В соответствии с российским законодательством период содержания под стражей во время судебного разбирательства не должен превышать шести месяцев. Однако по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд вправе продлевать его каждый раз до трех месяцев. Закон не ограничивает жесткими сроками время содержания под стражей во время судебной стадии процесса. Вследствие этого срок данной меры пресечения фактически ограничен временем судебного разбирательства дела и оканчивается моментом провозглашения приговора (ст. 255 УПК РФ). Тем не менее суд при каждом продлении срока содержания под стражей должен оценить наличие оснований для такого продления меры пресечения. Иными словами, суд должен применить нормы ст. 97 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ): установить наличие достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый (подсудимый) скроется от судебного следствия, продолжит заниматься преступной деятельностью или может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Кроме того, ему необходимо учитывать обстоятельства, перечисленные в ст. 99 УПК РФ: тяжесть преступления, личность обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства, в том числе возможность применения более мягкой меры пресечения.
Именно на данные обстоятельства ссылались российские власти, обосновывая неоднократные продления сроков содержания под стражей в отношении гражданина Макаро-ва3. В пункте 123 постановления Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский Суд) по данному делу Европейский Суд напоминает, что национальные власти обязаны установить существование конкретных фактов, имеющих отношение к основаниям длительного содержания под стражей. Переход бремени доказывания на заключенного в таких делах был бы равнозначен отмене правила статьи 5 Конвенции, признающей заключение под стражу отступлением в исключительных случаях от права на личную свободу, которое допустимо в строго определенных случаях, не допускающих расширительного толкования. Тем не менее российские власти оценивали возможность того, что заявитель скроется, со ссылкой на то, что он обвиняется в тяжких преступлениях и ему грозит суровый приговор. Практика Европейского Суда в данном случае исходит из того, что, хотя суровость наказания, которое грозит обвиняемому, является существенным элементом при оценке того, что он скроется или продолжит заниматься преступной деятельностью, необходимость в продолжении лишения свободы не может оцениваться с чисто абстрактной точки зрения, с учетом только тяжести обви- нения – необходима ссылка на иные значимые фактические обстоятельства4.
Рассматривая данную жалобу, Европейский Суд принял во внимание, что информация должностных лиц ФСБ о том, что родственники обвиняемого продавали имущество и покупали иностранную валюту, не подкреплялась доказательствами (копиями договоров купли-продажи, свидетельствами о переходе права собственности, банковскими выписками, подтверждающими приобретение валюты, и т. д.). В этой связи было признано, что продление срока содержания под стражей заявителя могло первоначально потребоваться на короткий срок для предоставления органам преследования возможности проверить информацию, предоставленную органами ФСБ, и собрать доказательства в ее подтверждение. Однако по прошествии времени одно лишь наличие информации в отсутствие доказательств, подтверждающих ее достоверность, делало ее все менее значимой, особенно с учетом того, что заявитель последовательно оспаривал свои возможности скрыться, ссылаясь на то, что никакое имущество не продавалось, валюта не приобреталась, на свой возраст, состояние здоровья, отсутствие действительного загранпаспорта или медицинской страховки, а также на тот факт, что он не имел родственников или имущества за пределами Томской области.
Серьезную озабоченность у Европейского Суда вызвал тот факт, что национальные власти применяли избирательный и непоследовательный подход при оценке доводов стороны относительно оснований для содержания под стражей заявителя. В частности, доводы обвиняемого признавались субъективными, а информация ФСБ не оценивалась с точки зрения ее достоверности. Продлевая срок содержания под стражей, российские суды ссылались также на то, что обвиняемый имеет несколько мест жительства, однако данное обстоятельство, по мнению Европейского Суда, также не является доказательством того, что человек скроется от правосудия. Таким образом, в данном деле власти Российской Федерации не предоставили ни одного доказательства, подтверждающего факт возможного бегства Макарова.
Еще одним значимым моментом в данном уголовном деле было то, что заявитель, по мнению российской стороны, имел возможность воспрепятствовать правосудию и угрожать свидетелям в силу своего должностного статуса мэра г. Томска. Однако данное обстоятельство также было поставлено под сомнение, поскольку заявитель был отстранен от занимаемой должности сразу после задержания. В деле также имеется информация, что 3 декабря 2007 г. Томский областной суд, продлевая сроки содержания под стражей, обосновал свое заключение о риске сговора ссылкой на предполагаемые попытки оказать давление на свидетелей со стороны родственников заявителя. Интересно, что помимо простой ссылки на угрозы, которые родственники и знакомые предположительно допускали в отношении свидетелей, областной суд не упоминает конкретных фактов, оправдывающих содержание под стражей заявителя на этом основании. Удивительно, по мнению международного судебного органа, что, руководствуясь конкретной информацией, национальный суд не обеспечил заявителю возможность оспорить ее, например, путем допроса свидетелей или представлением ему копий таких жалоб. Кроме того, российские власти не посчитали возможным уведомить заявителя о содержании и характере материалов, представленных органами преследования в подтверждение своей версии о давлении на свидетелей. Европейский Суд также находит странным то обстоятельство, что, будучи уведомленными о запугивании, устрашении или угрозах мести в отношении свидетелей, органы преследования не возбудили уголовное дело или, по крайней мере, не провели предварительной проверки этих утверждений – родственники не были даже опрошены относительно предполагаемых попыток оказать давление на свидетелей.
Возможность воспрепятствовать производству по уголовному делу играет роль на начальных стадиях производства, но не тогда, когда все доказательства собраны. В постановлении от 5 марта 1998 г. по делу «Клоос против Бельгии» Европейский Суд отметил: «Вероятность незаконного противодействия выяснению истины уменьшается вместе с движением уголовного дела, поэтому с завершением предварительного расследования надобность меры пресечения по данному основанию может отпасть»5.
Возвращаясь к нашему примеру, отметим, что российские власти не представили обоснованных подтверждений и иным основаниям длительного содержания Макарова под стражей. Риск того, что он продолжит заниматься преступной деятельностью, был вероятностным и не подтверждался конкретными доказательствами.
В своем стремлении не предоставлять Макарову свободу российские власти, как представляется, дошли до абсурда. Так, в материалах, представленных нашей стороной в Европейский Суд, содержалось еще одно, впрочем, не закрепленное законодательно основание содержания заявителя под стражей – необходимость защиты общественного порядка от нарушений, которые могут быть вызваны освобождением обвиняемого из-под стражи.
Неудивительно, что, оценив всю совокупность сложившихся в данном деле обстоятельств, Европейский Суд пришел к выводу, что заявитель, лишенный возможности уединения и испытывавший недостаток личного пространства, был вынужден жить, спать и пользоваться туалетом в плохо освещенных и вентилируемых камерах в течение более чем двух лет, переносил страдания, интенсивность которых превышала уровень страданий, присущий содержанию под стражей. Этот факт вызывал у него чувства страха, тоски и унижения. Оценивая значение для конкретного лица оперативного рассмотрения дела, как показывает данный пример, суду необходимо обращать внимание не только на его состояние здоровья, семейное положение, возраст, но и на социальный статус гражданина, находящегося на протяжении всего производства по делу также и под защитой презумпции невиновности.
В этой связи небезынтересным представляется выступление в феврале 2007 г. Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки. Анализируя ситуацию с применением заключения под стражу в качестве меры пресечения, он отметил: «Особенно сложная ситуация сложилась в следственных изоляторах. Эти учреждения переполнены, установленные санитарные нормы не соблюдаются, люди, находящиеся там, подвергаются унижению... Обращаю внимание на то, что избирать меру пресечения необходимо обоснованно, с учетом личности обвиняемого»6.
Право собственности представляется нам еще одним наиболее важным по значимости (после естественных прав человека) интересом личности. «При неразвитости права собственности, – отмечает И. Б. Михайловская, – его монополизации государством, юридические гарантии прав человека теряют свою надежность и легко превращаются в декларацию»7. Право собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает своему обладателю определять содержание и направление использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное «хозяйственное господство»8.
Уголовно-процессуальное законодательство содержит ряд мер, направленных на ограничение данного права лица в связи с его вовлечением в сферу уголовной юстиции в качестве подозреваемого или обвиняемого. Согласно ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь, с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель, с согласия прокурора, возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Сущность данной меры принуждения заключается в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Для лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, это может означать полную остановку хозяйственной деятельности, невозможность совершения сделок, исполнения кредитных и договорных обязательств. При этом длительное рассмотрение уголовного дела, оставляющее подсудимого в состоянии неопределенности своей судьбы, влечет для таких лиц крайне неблагоприятные последствия.
При оценке значимости оперативного рассмотрения уголовного дела необходимо учитывать и наличие или отсутствие иждивенцев. Несмотря на то, что закон предусматривает меры попечения о несовершеннолетних детях, престарелых родителях и иных иждивенцах подозреваемого, обвиняемого, назвать их эффективными с точки зрения поддержания прежнего материального уровня жизни зачастую достаточно сложно – государство такую цель и не преследует. Однако в данном случае складывается ситуация, когда не находящиеся под следствием члены семьи подозреваемого, обвиняемого вынуждены терпеть существенные лишения.
Аналогичная проблема может возникнуть и при временном отстранении лица от должности. Для таких лиц закон предусматривает право на ежемесячное пособие, которое выплачивается ему в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ и составляет пять минимальных размеров оплаты труда. Так же как и в предыдущем случае, при оценке значимости оперативного рассмотрения дела для этих лиц суду необходимо учитывать количество иждивенцев отстраненного от должности, а также сумму обязательных ежемесячных платежей (медицинское обслуживание и лекарственные препараты, квартплата, обучение и т. п.).
В этой связи интересен пример из практики Европейского Суда по правам человека, рассмотревшего жалобу граждан Бельгии. Двое заявителей – учредителей большого количества компаний жаловались на чрезмерную продолжительность производства по уголовному делу, возбужденному против них в связи с различными преступлениями, включая сговор, нарушения закона о компаниях и легализацию доходов, полученных преступным путем. На момент рассмотрения жалобы Европейским Судом длительность производства по данному уголовному делу длилась приблизительно 16 лет и 10 месяцев. В рамках данного дела неоднократно производились обыски в помещениях бельгийских финансовых организаций, проводились проверки счетов компаний, учрежденных в различных странах, направлялись поручения об оказании правовой помощи. Рассматривая вопросы права в рамках заявленной жалобы, Европейский Суд по правам человека отметил следующее: «Объем и сложность уголовных дел, касающихся экономических и налоговых вопросов, с участием большого количества подозреваемых могут обусловливать их продолжительное разбирательство. Однако сложность настоящего дела сама по себе не была достаточной, чтобы оправдать длительность разбирательства. Действия заявителей не увеличивали продолжительность расследования. Что касается действий властей, то имел место период, по крайней мере, в три года и 11 месяцев, в течение которого расследование дела почти не проводилось. В связи с данным делом от властей требовалась особая внимательность, учитывая его значительные финансовые последствия для заявителей, связанные с их профессиональной деятельностью и деятельностью их компаний»9.
Формулировка исследуемого критерия дает нам основание полагать, что заявителем в определенных случаях может быть и иное, помимо обвиняемого или подсудимого, заинтересованное лицо. Поскольку одной из целей уголовного процесса выступает защита лиц и организаций, потерпевших от преступления, то восстановление их прав путем разрешения уголовно-правового конфликта в разумные сроки также должно приниматься во внимание10. Тянущееся годами производство по уголовному делу существенно отдаляет для потерпевшего момент восстановления нарушенных прав, возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением. Согласно чч. 3 и 4 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. Кроме того, по иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом либо при рассмотрении уголовного дела, либо в порядке гражданского судопроизводства. В любом случае потерпевшему необходимо дожидаться окончания судебного процесса, когда при постановлении приговора суд решит и вопросы гражданского иска.
К сожалению, в России жертвы преступлений не имеют права на серьезную государственную поддержку в плане компенсаций за ущерб, причиненный преступным деянием. Исходя из этого, время рассмотрения судом уголовного дела имеет для них первостепенное значение.
Список литературы Оперативное рассмотрение уголовного дела как критерий определения разумного срока
- Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 3
- Лебедев В. М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии: учеб. пособие. М.: Рос. акад. правосудия, 2001. С. 10
- Александр Макаров против Российской Федерации: постановление Европ. Суда по правам человека от 12 марта 2009 г. (жалоба № 15217/07). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
- Летелье против Франции: постановление Европ. Суда по правам человека от 26 июня 1991 г. по делу//Европ. Суд по правам человека: избр. решения: в 2 т. М.: НОРМА, 2000. Т. 1. С. 701
- W против Швейцарии: постановление Европ. Суд по правам человека от 26 янв. 1993 г.//Европ. Суд по правам человека: избр. решения: в 2 т. М.: НОРМА, 2000. Т. 1. С. 776
- Орлов Р. В. Заключение под стражу как мера пресечения в российском уголовном судопроизводстве: понятие, сущность, основания применения и сроки: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. С. 36
- Чайка Ю. Я. Не надо сажать оступившихся людей в тюрьму//Обл. газ. 2007. 7 февр
- Михайловская И. Б. Права человека. Новое российское законодательство и международно-правовые нормы. М., 1992. С. 5
- Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Хоз-во и право: СПАРК, 1995. С. 269
- Де Клерк против Бельгии: постановление Европ. Суда по правам человека от 25 сент. 2007 г. (жалоба № 34316/02). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
- Азаров В. А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. Омск, 1990
- Малеин Н. С. О моральном вреде//Государство и право. 1993. № 3. С. 32-39
- Рыжаков А. П. Потерпевший: понятие, права и обязанности. Ростов н/Д, 2006. С. 161-174
- Сарсенбаев Т. Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов беспомощных жертв преступления в досудебном производстве (сравнительно-правовое исследование по материалам Казахстана и России). М.: Юрлитинформ, 2005