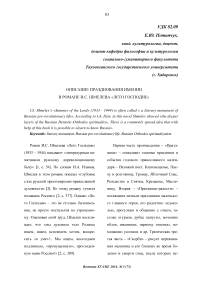Описание празднования именин в романе И. С. Шмелева «Лето Господне»
Автор: Потапчук Е.Ю.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
ЯВЛЯЕТСЯ. «Лето Господне» Шмелева часто называют «литературным памятником русской дореволюционной жизни» (1933 - 1944). Согласно I.A. Ильин, в этом романе Шмелев показал «более глубокие слои русской демотико-православной духовности». Существует распространенная идея, что с помощью этой книги можно «научиться знать Россию».
Короткий адрес: https://sciup.org/14319850
IDR: 14319850
Текст научной статьи Описание празднования именин в романе И. С. Шмелева «Лето Господне»
Роман И.С. Шмелева «Лето Господне» (1933 – 1944) называют «литературным памятником русскому дореволюционному быту» [1, с. 54]. По словам И.А. Ильина, Шмелев в этом романе показал «глубокие слои русской простонародно-православной духовности» [3]. По этому роману «учатся познавать Россию» [2, с. 377]. Однако «Лето Господне» – это не столько бытописание, не просто ностальгия по утраченному. Оценивая свой труд, Шмелев восклицает, что «мы духовное тело Родины ищем, ищем, вспомнить хотим, воскресить «в уме»!.. Мы ищем, воссоздаем подлинную, «пропущенную», прогляден-ную нами Россию!» [2, с. 389].
Первая часть произведения – «Праздники» – описывает главные праздники и события годового православного календаря – Великий пост, Благовещенье, Пасху и розговины, Троицу, Яблочный Спас, Рождество и Святки, Крещенье, Масленицу. Вторая – «Праздники-радости» – посвящена личным праздникам маленького главного героя, его радостям: ледоко-лью, прогулкам и общению с отцом, засолке огурцов, рубке капусты, мочению яблок, именинам, первому говенью, поминанию усопших и др. Трагическая третья часть – «Скорби» – рисует переживания мальчика и его близких во время болезни и смерти отца, после которых ис- чезнет радость в существовании их семьи. Автор в своём произведении бережно и детально воспроизвёл повседневный и праздничный порядок жизни московского Замоскворечья, который безвозвратно исчез после революции.
Ильин подчёркивал, что Шмелев «показывает читателю внешние образы, взывающие к его сердцу, заставляя его видеть сердцем, символически прожигая чувственное до нечувственного, заставляя его созерцать внешнюю видимость. Шмелев никогда не описывает чувственно-внешний состав вещей, образов и природы, как таковой, то есть как вечно самодовлеющее… Ему некогда; ему надо показать Главное. Поэтому «внешность» у него всегда пронизана или прожжена лучами внутреннего смысла. Все внешнее служит ему знаком, орудием, средством или отображением внутреннего – душевного трепета, или страдания, или блаженства, или гнева, или отчаяния» [3].
Именно в таком ключе описывается в «Лете Господнем» празднование именин. «Осень – самая у нас именинная пора: на Ивана Богослова – мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября – отца; через два дня, мученицы Евлампии, матушка именинница, на Михайлов день Горкин пирует именины, а зиму Василь Василич зачинает, – Васильев день, – и всякие уж пойдут, неважные» [4, с. 460]. Именины – праздник-радость, в котором наиболее полно ощущается взамосвязанность духовного и телесного существования православных Замоскворечья. Столу и кухне, конечно же, уделяется много внимания. Угощают различными закусками всех, пришедших с поздравлением: и молодцов, и важных монахов из Донского монастыря, и матушек-казначейш из Зачати-евского, от Вознесенского из Кремля, и прибывших с Афонского подворья, и «людей попроще», и нищих и убогих, а также своих и пришлых, работавших раньше на семью.
Празднование именин неотделимо от благотворительности. «Повелось от прабабушки накрывать угощение и «убогим». «Папашенька» на свои именины «полста кормил», к Михаилу Панкратовичу «бедно-бедно», а десятка два притекут, с солонинкой похлебка будет, будто мой Ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и кусок в глотку не полезет, пировать-то станем» [4, с. 489].
Во время парадного обеда с архиереем, о. Виктором и протодьяконом Прима-гентовым «богато подавали» и постникам (рыбный бульон, расстегаи, стерлядь, крокеты рыбные с икрой, уха, три кулебяки, заливное, тельное, сиги с гарниром, ореховый торт, ананасный «маседуван» и пр.), и «скоромникам» (кулебяки, пирож- ки, крокеты, суп с гусиным потрохом, рассольник, рябчики заливные, ветчина, жареный гусь под яблочками с шинкованной красной капустой, с пустотелым картофелем, «пожарские» котлеты, «гурьевская» каша, пломбир в шампанском и пр.).
Но именины празднуются для того, чтобы порадовать «своего» святого. Поэтому папашенька всегда к своим именинам готовит «удивленье»: например, в «прошедшем году после сладкого крема вдруг подали котлеты с зеленым горошком и с молодым картофелем-подрумянкой… А тут-то и вышло «удивленье»: из сладкого марципана сделано» [4, с. 469]. Поэтому в конце «невиданно парадного» ужина после заливных, соусов-подливок, индеек и фаршированных каплунов, фазанов с желе подали «вылитый из цветных леденцов душистых, в разноцветном мороженом, святящийся изнутри – живой «Кремль»!» [4, с. 482], а после предложили арбуз. Но «громадный, невиданный арбуз», пахнущий «влажной, прохладной свежестью» оказался марципаном. «И вышло полное «удивление»; все попались, опять удивил отец, опять «марципан», от Абрикосова» [4, с. 483].
На именинах «во всем было празднование и торжество» [4, с. 478]. К ним старательно готовятся, поэтому глава, описывающая именины отца состоит из двух частей: «Преддверие» и «Празднование».
Подарки имениннику задумываются так, чтобы почтить уважением и человека, и святого, чье имя он носит. Из Донского монастыря привезли большую просфору – «заздравную», монахини подарили «подзоры под иконы, разные коврики, шитые бисером подушечки», прибывшие с Афонского подворья поют величальную мученику Сергию, сын Ванечка для папашеньки списал на золотую бумагу, выучил и прочитал «длинные стишки», а работники для своего хозяина заказали испечь «огромадный» крендель. «И чтобы ни словечка никому: вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему, и слава такая на виду, всем в пример» [4, с. 462]. Крендель задумано полить сахаром, и написать на нем: «На день ангела – хозяину благому». Для создания торжественной атмосферы планируется каждая деталь. «И еще обдумали – на чем нести: сделать такой щит белый липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его, а Горкин сам выложит весь щит филенкой тонкой, вощеной, под тонкий паркет, – самое тонкое мастерство, два дня работы ему будет» [4, с. 462]. Крендель выпекался, готовился и украшался с особым тщанием. «Глядим в окошко, а на улице народу!!! …огромный румяный крендель будто плывет над всеми. Такой чудесный, невиданный, вкусный-вкусный, издали даже вкусный. Впереди Горкин держит вставочку; а за ним четверо, все ровни-ки… разноцветные ленты развеваются со щита под кренделем, и кажется, будто крендель совсем живой, будто дышит румяным пузиком» [4, с. 471].
Когда его подносили имениннику, был даже устроен «сердцу человеческому» в нарушение существующих правил «трезвон» «у Казанской» [4, с. 474]. «Все праздничные, в новеньких синих чуйках, в начищенных сапогах», с намасленными «до блеска» в честь праздника головами, работники поздравляют хозяина с именинами и целуются с ним, «будто христосуются» [4, с. 471].
Все остальные по заведенному обычаю для уважения посылают и приносят именинные пироги: «румяный, из безе, посыпан толченым миндалем и сахарной пудрой, ромовый... кремовые с фисташками... с цукатами, миндально-постный... весь фруктовый, желе ананасным залит… миндальные, воздушно-бисквитные, с вареньем, с заливными орехами, в зеленоватом креме из фисташек, куличи и куличики, все в обливе, в бело-розовом сахаре, в потеках» [4, 473]. Сынишка замечает, что в прошлом году было подарено шестьдесят семь пирогов и двадцать три кулича. «Родные и знакомые, прихожане и арендаторы, подрядчики и «хозяйчики»… и с подручными молодцами посылают, несут и са- ми» [4, с. 473]. Старенькие и убогие «подносят копеечные просвирки-храмики, обернутые в чистую бумажку» [4, с. 472].
В день именин Сергей Иванович с утра причастился, «весь новый какой-то даже», «опрыскался новым флердоранжем, – радостно пахнет праздничным от него», вкусил «румяную посвирку и запил кагорчиком с кипятком» [4, с. 470], засветил все лампадки, напевая «Кресту твоему», выкупал скворца с соловьями, все клетки почистил и задал корму птичкам.
Вечером после бурного торжества, когда открыли настежь для проветривания выставленные заранее оконные рамы, запел живой соловей – «будто весной, в Нескучном» [4, с. 484]. Такую радость подарить отцу задумали старик Горкин с птичником Солодовкиным. С именинами поздравляют с пожеланиями выздоровления даже умирающего. Приходят «болящего почтить» и преподносят пироги «для порядка». После соборования хозяина «пироги все несут. И кренделя, и куличи, и просвирки. Сегодня очень много просвирок, и больше все храмиками, копеечных, от бедных» [4, с. 653].
Поздравление именинника, как и празднование именин, – обязательный элемент православного этикета. Поэтому на «Александра Невского, 23 числа ноября, меня посылают поздравить крестного с Ангелом, а вечером старшие поедут в гости» [4, с. 519]. И формальное празднование именин Кашина приоткрывают читателю скрытый смысл праздника: именинник чествуется по заслугам. Прочитав заученные стишки страшному и злому крестному, мальчик с Горкиным бегут из его «холодного» дома без оглядки. «Свалили с души, пойдем» [4, с. 521]. Иначе празднуются именины в семействе главного героя «Лета Господня» – радостно, искренне, душевно. Поэтому, наверно, и завидует Кашин чести, оказанной Ваниному отцу в день его Ангела.
К именинам чистят и украшают жильё. Например, в ожидании Михайлова дня мастерскую, где живет именинник, «выбелили заново; стекла промыли с мелом; между рамами насыпали для тепла опилки, прикрыты ваткой, а по ватке разложены шерстинки, – зеленые, голубые, красные, – и розочки с кондитерских пирогов, из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком» [4, с. 486], в каморке раскладываются «святыньки» для демонстрации гостям. «Все образа почищены, лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками, старинного литья, 84-й пробы» [4, с. 486], подвешиваются «шестокрылые Серафимы», которые вынимаются только на именины, достается новое одеяло, сшитое из шелковых лоскутков, которое очень «приукрасило» «коморочку».
Именинник Горкин, сходив в баню, едет к всенощной. Для него «самый это великий день, сам Михайла Архангел к нему приходит» [4, с. 485].
Маленький герой романа Ванечка, который еще только входит в мир, всматриваясь в «образ архистратига Михаила: весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья» [4, с. 488], узнает и запоминает, что за каждым стоят Ангелы, «каждому Ангелу день положен, славословить чтобы… вот человек и именинник, и ему почёт-уважение, по Ангелу» [4, с. 488].
Подарки к именинам заготавливаются так, чтобы порадовать душу и именинника, и дарителя: отец подарил хорьковую шубу, Ваня – новый кошелек, банщики – крендель, скорняк – «золотой лист» из синодальной лавки, монашки – одеяло, Антипушка и Василь Васильевич – по чашке, Трифоныч поднесет «ландринчику и мармаладцу», Гришка начистил сапожки, булочник принесет пирог с грушками и желе, Марьюшка испекла пирог с изюмом и кулебяку, Маша вышила бисером и шелком бархатную туфельку под часы, Денис принес в ведерке живой рыбы, водолив – зеленой спаржи на образа, Солодовкин – напетого скворчика, псаломщик – проповедь митрополита Филарета, певчие от Казанской преподносят кулич с резной солоницей и обе- щают пропеть стихиры. «Весь день самовар со стола не сходит» [4, с. 494].
По такому же порядку отмечаются и детский праздник: нарядный маленький именинник едет к обедне, за столом ему подают первому, с поздравлениями преподносятся подарки: коробочка «ландринчика», «заздравная» просвирка, книжечка про святых Кирилла и Мефодия, «которые написали буковки, чтобы читать Писание», коврижки и мармелад, «розовое мыльце-яичко», «душки резедовые», черный пистолет с медными пистонами, а также «скачки» с тяжёлыми лошадками и цветочный атлас с раскрашенными цветочками» [4, с. 641]. Вечером семья играла бы в лото и «скачки» на грецкие орехи, пила бы шоколад с бисквитами, если бы не болезнь отца, который, тяжело болея, всё же сам придумал, что подарить сыну. Конечно же, все подарки заготовлены с вниманием и заботой. Ваня – маленький мальчик, поэтому среди даров мальчиковые игрушки, он любит цветы, поэтому – цветочный атлас, он учится грамоте и основам православной культуры, поэтому – книга о святых первоучителях и просветителях славянских Кирилле и Мефодии. Для именин наряжаются и виновник торжества, и близкие. Сестры – «в белых платьях с черными бархотками на шее с золотыми медальончиками-сердечками» [4, с. 641], братик – в новой курточке, сам Ваня – «во всем параде» – в костюме с малиновым бархатом и стеклянными янтарными пуговками. Мальчику приятно, что для его именин «так нарядились, словно в великий праздник» [4, с. 641].
Именины Вани имеют особое значение в произведении: именно в день Ивана Богослова находящийся при смерти отец благословил детей. Подаренный им полный красоты и гармонии мир православных ценностей возродил на страницах своего романа его сын – искусный мастер слова, русский писатель, страдающая душа И.С. Шмелев. «Образ коснулся моей головы, и так остался» [4, с. 469]. «Оправданием для себя» [2, с. 377] почитал И.С. Шмелев своё «Лето Господне».
Список литературы Описание празднования именин в романе И. С. Шмелева «Лето Господне»
- Буслакова, Т. П. Литература русского зарубежья/Т. П. Буслакова. -М.: Высшая школа, 2003. -365 с.
- Ильин, И. А. Собрание сочинений: переписка двух Иванов (1927 -1934)/И. А. Ильин. -М.: Русская книга, 2000. -560 с.
- Ильин, И. Творчество И. С. Шмелева/И. Ильин//URL: http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/ivan_ilin_tvorchestvo_i_s_shmeleva_3/27-1-0-4701 (дата обращения: 19.05.2014).
- Шмелев, И. С. Избранное/И. С. Шмелев. -М.: Правда,1989. -688 с.