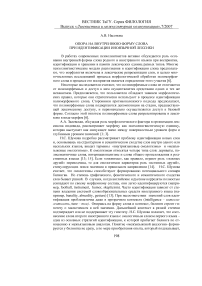Опора на внутреннюю форму слова при идентификации иноязычной лексики
Автор: Насонова Анна Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Сообщения по результатам исследований
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120451
IDR: 146120451
Текст статьи Опора на внутреннюю форму слова при идентификации иноязычной лексики
ОПОРА НА ВНУТРЕННЮЮ ФОРМУ СЛОВА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В работах современных психолингвистов активно обсуждается роль осознания внутренней формы слова родного и иностранного языков при восприятии, идентификации и хранении в памяти лексических единиц разных типов. Многие психолингвистические модели распознания и идентификации слова предполагают, что морфология включена в лексические репрезентации слов, и целью многочисленных исследований процесса морфологической обработки полиморфем-ного слова в процессе его восприятия является определение этого участия [6].
Некоторые исследователи считают, что полиморфемные слова не отличаются от мономорфемных и доступ к ним осуществляется средствами одних и тех же механизмов. Предполагается, что пользователи обладают знанием морфологических правил, которые они стратегически используют в процессе идентификации полиморфемного слова. Сторонники противоположного подхода предполагают, что полиморфемные слова подвергаются декомпозиции на стадии, предшествующей лексическому доступу, и первоначально осуществляется доступ к базовой форме. Согласно этой гипотезе полиморфемные слова репрезентированы в лексиконе в виде морфем [6].
А.А. Залевская, обсуждая роль морфологического фактора в организации лексикона индивида, рассматривает морфему как психолингвистическую единицу, которая выступает как связующее звено между поверхностным уровнем форм и глубинным уровнем значений [1; 3].
Н.С. Шумова подробно рассматривает проблему идентификации новых слов и, основываясь на структурном и семантическом сходстве слов внутри одного или нескольких языков, вводит термины «внутриязыковые омологизмы» и «межъязыковые омологизмы». К омолгизмам относятся четыре типа слов: дериваты, полисемантичные слова, интернационализмы и слова общего происхождения в родственных языках [13; 15]. Если «омонимы», как правило, играют роль «ложных друзей» переводчика, то для омологизмов характерна роль «истинных друзей», стимулирующих поиск значения в правильном направлении [14]. Н.С. Шумова считает, что омологизмы способствуют формированию потенциального словаря билингва. Но степень графического, фонетического и семантического сходства слов бывает разной. В случаях, когда английские и русские корреляты полностью совпадают по своему морфемному составу, они легко идентифицируются (например, football, instrument, humor, skepticism). Часто идентификация зависит от степени владения системой словообразовательных средств иностранного языка (например, banality, absurdity, gesture) [13]. При несоответствии значений слов идентификация проблематична даже в прозрачном контексте (intelligence - интеллигентность , tune - тон). Опираясь на форму слова и контекст, билингв строит гипотезу о заключенном в ней значении. Дальнейший контекст в разной степени подтверждает или не поддерживает эту гипотезу. Н.С. Шумова полагает, что соотнесение слова второго иностранного языка с омологичным словом первого языка – одна из основных стратегий идентификации, к которой прибегает билингв по отношению к межъязыковым аналогам. Понятие «межъязыковой аналогии» формируется у билингва не сразу, а по мере приобретения опыта, который подсказывает, что внешнее сходство не всегда свидетельствует о сходстве семантическом. На начальном этапе обучения иностранному языку билингв склонен думать, что сходство формы сигнализирует о сходстве содержания, игнорируя противоречащий этому предположению контекст [14].
Модели идентификации слов на материале неологизмов, принадлежащих к разным частям речи, носят универсальный характер, но количественное соотношение и степень актуальности той или иной модели для разных частей речи различны [9]. Результаты эксперимента на материале русских прилагательных [10] показывают, что мотивирующими элементами идентификации послужили различные компоненты слова, как значимые, к числу которых относятся основа стимула и аффиксы, так и простые цепочки графем и/или фонем, находящиеся в начале, в середине или в конце слова. Идентификация может быть обусловлена комбинацией двух и более мотивирующих элементов. Т.Ю. Сазонова предполагает, что при идентификации нового слова, не имеющего орфографической репрезентации в ментальном лексиконе, происходит ошибочный доступ к слову, орфографическая репрезентация которого наиболее близка к графическому образу визуального стимула. Например, на слово «незашоренный» появляются реакции незасо-ренный, незашторенный , имеющие набор сходных признаков со словом-стимулом. Актуальными моделями идентификации новых слов являются модель опознания мотивирующего слова и опознание словообразовательной модели стимула. Эти две модели находятся в тесной взаимосвязи, так как их реализация обеспечивается механизмом морфологического анализа слова [10].
С.И. Тогоева исследует проблемы развития нового слова как единицы внутреннего лексикона человека, предлагает свою классификацию стратегий идентификации незнакомых слов; в ее экспериментах также четко прослеживается группа ассоциативных реакций, являющихся продуктом идентификации слова по корневому элементу [11; 12].
Опора на внутреннюю форму может обеспечить запоминание и «присвоение» слова в условиях учебного билингвизма [8]. В русском и английском языках имеется некоторое количество интернациональных лексических единиц, образованных от одного корня, часто латинского происхождения.
Многие элементы латинского языка должны быть известны студентам до начала изучения латинского языка, так как в русском языке большое число слов латинского происхождения. Многие из этих слов можно считать неосмысленными носителями языка, об этом свидетельствуют распространенные ошибки в употреблении слов латинского происхождения ( пр и це н дент, инци н дент, для проформы, наиболее оптимальный ) [8].
По результатам эксперимента, проведенного с целью выявить особенности восприятия русскими студентами английских слов, содержащих латинские морфемы, Е.С. Летягина и В.В. Солдатов делают интересные выводы [7]. Идентификация значения незнакомого иноязычного слова во многом протекает так же, как и при встрече с неологизмом в родном языке. Носитель языка использует различные стратегии идентификации (мотивирующую, словообразовательную, категориальную, по сходству звукобуквенного комплекса). Такие же стратегии использовались испытуемыми при реакции на слова-стимулы иностранного языка. Четко прослеживается тенденция уяснить значение слова путем расчленения неизвестного слова на знакомые элементы, причем результаты анализа, проводимого человеком при встрече с новым словом, не всегда совпадают с теми словообразова- тельными принципами, в соответствии с которыми слово возникло в языке. В данном эксперименте имеются примеры того, как испытуемые не узнают распространенные латинские приставки в составе новых слов (subaqueous - собачий, собака; discommode – дискотека) [7].
При восприятии незнакомого слова испытуемые часто ориентируются на сходные по звучанию или написанию слова родного языка. Ассоциации с русскими словами настолько сильны, что заставляют испытуемых игнорировать орфографические правила (omniscient – о мнистия ). Некоторые реакции на слово-стимул могут являться результатом взаимодействия различных стратегий. Иногда слова-стимулы воспринимались как аббревиатуры: discomfiture – discomfortably + furniture - неудобно обставленный . Часто ассоциация представляет конечный результат сложного процесса восприятия слова, в котором можно выделить несколько этапов.
Следует установить более тесные связи между курсами английского и латинского языков, так как студентов необходимо обучать видеть внутреннюю форму производного слова и извлекать его значение из значения морфем [8]. Если студент правильно осознает форму слов с латинскими морфемами, он делает меньше ошибок и в правописании.
Обращение к внутренней форме при включении нового слова в лексикон окрашивает эту деятельность приятными эмоциональными переживаниями. Переживания «открытия», придает слову параметр эмоциональности, делает более прочной ассоциативную связь слова с другими единицами лексикона. При анализе новых слов с точки зрения словообразования по-иному видятся и давно знакомые слова, усвоенные как «цельности» [8]. Слово входит в лексикон индивида тогда, когда оно сопряжено с эстетическими и эмоциональными переживаниями. Именно эти переживания помогают открыть смысл слова. Освоение значения слова происходит путем актуализации его внутренней формы, и тогда это слово становится достоянием индивида, средством доступа к другим знаниям. А.А. Залевская [2], развивая идеи И.М. Сеченова, говорит о специфических чувственных корнях значения слова как единицы лексикона, которые являются необходимым условием и средством выхода на индивидуальную картину мира.
Процессы идентификации незнакомого слова могут получить объяснение с помощью синергетического подхода. В данном случае синергизм, присущий процессу опознания нового слова, трактуется как явление слияния энергий и их взаимодействия. По мнению Ю.С. Комаровой, при идентификации незнакомого слова происходит взаимодействие энергии индивида, направленной на опознание слова, и энергии самого слова, свернутой в нем в качестве внутренней формы [4].
Идентификация значения слова предполагает соотнесение языковой информации со схемами знаний, убеждений и представлений человека о мире, которые определенным образом упорядочены для осуществления быстрого доступа к знаниям в процессе восприятия и идентификации. В процессе идентификации происходит осознанное и неосознанное сопоставление с продуктами предшествующего опыта индивида [6].
Если при рецептивных видах деятельности билингв пытается идентифицировать незнакомые слова, то, при продуктивной деятельности он часто занимается словотворчеством, т.е. в процессе коммуникации говорящий не только пользуется готовыми лексическими единицами с уже заданной формой, но и создает всякого рода контаминации, неологизмы с новой внутренней и внешней формой. Т.М.
Кузнецова считает творческие новообразования в речи студентов результатом действия выработанной языковой установки [5]. Установка как феномен психической активности является результатом организации прошлого опыта индивида. Часто ошибки в речи студентов объясняются стремлением образовать слово по аналогии с тем, как это делается в родном языке, пользуясь морфологическим аппаратом английского языка и правилами английского словообразования. Это проблема будет рассмотрена нами в следующей работе.