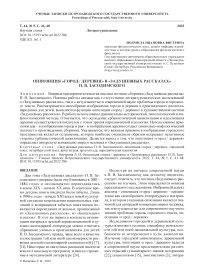Оппозиция «город / деревня» в «Задушевных рассказах» П. В. Засодимского
Автор: Вигерина Людмила Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 5 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Впервые предпринята попытка анализа поэтики сборника «Задушевные рассказы» П. В. Засодимского. Новизна работы связана как с отсутствием литературоведческих исследований о «Задушевных рассказах», так и с актуальностью в современной науке проблемы города и городского текста. Рассматривается своеобразие изображения города и деревни в произведениях писателя-народника для детей, выявляются функции оппозиции «город / деревня» в художественной системе «Задушевных рассказов». В работе использованы сравнительно-исторический, типологический и мифопоэтический методы. Отмечается, что осуждение урбанистической цивилизации и идеализация деревни осуществляются писателем с точки зрения народнической идеологии. Использование архетипов ада - в изображении города и рая - в изображении деревни создает символико-мифологический подтекст в произведениях сборника. Указывается, что важным приемом в изображении городского пространства является остранение, которое наиболее очевидным образом вскрывает негативные стороны урбанистической цивилизации. Делается вывод о том, что оппозиция «город / деревня» определяет авторскую концепцию мира и человека в «Задушевных рассказах».
«задушевные рассказы» п. в. засодимского, оппозиция «город / деревня», городской текст, петербургский текст, архетип рая, архетип ада, народническая идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/147237966
IDR: 147237966 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.786
Текст научной статьи Оппозиция «город / деревня» в «Задушевных рассказах» П. В. Засодимского
Два тома «Задушевных рассказов» П. В. За-содимского впервые были опубликованы в 1883– 1884 годах и неоднократно переиздавались в конце XIX – начале XX века. В советское время детские книги писателя были забыты. Лишь в 1990-е годы – начале XXI века в новой культурной ситуации возрождения национальных традиций и возвращения забытых памятников появляются переиздания отдельных произведений из «Задушевных рассказов», из «Бывальщин и сказок»1. В этот же период в контексте активизации интереса к детской дореволюционной и духовно-календарной литературе можно отметить обращение ученых к произведениям для детей П. В. Засодимского, правда, чаще всего в качестве иллюстрации той или иной закономерности развития детской и календарной словесности [6], [7], [14]. Некоторые из святочных рассказов писателя вошли в школьную программу и нашли отражение в методической литературе [24].
Несмотря на интерес современной науки к П. В. Засодимскому как детскому писателю, следует отметить, что поэтика «Задушевных рассказов» не изучена. Этим определяется новизна предлагаемого исследования. Выбранный аспект анализа – оппозиция «город / деревня» – продиктован как своеобразием литературного материала, в котором указанная оппозиция является значимой для авторской концепции мира и человека, так и актуальностью для современного научного знания проблемы города, городского текста, оппозиции «город / деревня».
Исследования городской и деревенской культуры позволяют осознать специфику ментальности той или иной национальной культуры, особенности ее исторического пути, аксиологии. Изучение городской цивилизации, деревенской культуры, оппозиции «город / деревня» ведется в современной науке представителями различных отраслей гуманитарного знания: историками [22], социологами [15], лингвистами [3], литера- туроведами [2], [5], [12], [18], [19], [21], [22], культурологами, искусствоведами [23] и др.
Город как особый социокультурный феномен осознается через оппозицию той среде, которая его окружает. Ю. В. Лобанова отмечает:
«Скрытую апелляцию к природе содержит любой текст, в котором подчеркнута рукотворность городской среды. <…> Город всегда возникает как альтернатива уже существующему культурному пространству… Это означает, что среда, в окружении которой находится каждый город, – среда деревни…»2.
Для осознания специфики города как социокультурного явления и его аксиологического восприятия важен имагологический подход: взгляд городского жителя на деревню и деревенского жителя на урбанистическую цивилизацию. Урбанистическая цивилизация рассматривается писателем в «Задушевных рассказах» с позиции народнической идеологии, отрицавшей капиталистический путь развития России и идеализировавшей русскую патриархальную общину [4].
Городскому пространству писатель противопоставляет сельское (природное), правда, чаще всего это не реальная деревня, которая переживала в этот период кризис, а воображаемые картины детства героев на лоне природы. Образы города и деревни изображаются в мифопоэтическом аспекте: современный капиталистический город осмыслен через архетип ада; природный мир, деревня – через архетип рая, золотого века, что обусловлено и христианским миросозерцанием П. В . Засодимского, и его знакомством с народно-христианской культурой, и особенностями его творческой манеры, о которой справедливо писала Е. Ю. Власенко:
«Уже в произведениях раннего периода творчества (1867–1873) П. В. Засодимского можно обнаружить глубинные пласты смыслообразования, ориентацию художественной структуры текста на архаические, христианские и литературные мифологемы. Несмотря на злободневность тематики, на сосредоточенность писателя на проблемах современного общественного устройства <…> содержание его повестей и романов на поверку оказывается укорененным в глубинах общечеловеческих универсальных ценностей…»3.
Все отмеченные особенности творческой манеры П. В. Засодимского проявляются и в произведениях для детей. Сам писатель признавался: «Все те веяния, которым подвергалась литература “для взрослых”, отражались и на детской литературе»4. Он не был склонен резко разграничивать взрослую литературу и детскую, считал, что нужно «говорить с юношеством, как с ровней, и с детьми, как с существами мыслящими, разумными, для которых одной сухой, бессо- держательной морали или одних сказочек недо-статочно»5. Поэтому в произведениях для детей он ставит и острые социальные проблемы, и вечные, бытийные, изображает не только отрадные картины, но и страшные, не боится говорить с юным читателем о смерти. В предисловии «От автора» к первому тому «Задушевных рассказов» П. В. Засодимский формулирует свою позицию так:
«Я убежден, что на созерцании одних картин счастья, радости, довольства не может развиться чувство нежного сострадания к тому, что ниже, слабее, беднее и вообще несчастнее нас. <…> Поэтому, изображая светлые стороны жизни, я никогда не упускал из виду и темных сторон ее»6.
Оппозиция «город / деревня» имеет разные варианты художественного воплощения в «Задушевных рассказах». В святочном жанре («Ночь на Новый год», «Перед печкой», «История двух елей») картинам тяжелой жизни бедняков, смерти в «большом городе» противопоставлены картины сновидений и грез героев о деревне, о жизни на лоне природы. Такое противопоставление призвано вскрыть антигуманность урбанистической цивилизации. Другой вариант художественного решения оппозиции «город / деревня» связан с использованием «диалогического конфликта» – спор девочек о городе и деревне в рассказе «Дочь угольщика».
ОППОЗИЦИЯ «ГОРОД / ДЕРЕВНЯ»
В «СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗАХ» СБОРНИКА
Образ большого города представлен в святочных рассказах «Ночь на Новый год», «Перед печкой», а также в рассказе «Вовка» («Из биографии одного кадета»), в котором присутствуют образы и мотивы рождественского жанра. Если в последнем прямо указывается, что действие происходит в Петербурге, то в других большой город не конкретизируется, но в его образе угадываются черты Петербурга (набережные, фабрики, сады, сырость, холод, дворы-колодцы, каморки бедняков в подвалах и на чердаках доходных домов и др.), известные по классическому петербургскому тексту русской литературы XIX века.
Петербург появляется в произведениях писателя неслучайно. П. В. Засодимский связан с городом биографически: в 1863 году после окончания вологодской гимназии он приехал учиться в университет, слушал лекции на юридическом факультете, в 1870-е годы сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Детское чтение», «Слово» и др. В книге «Из воспоминаний» (1908) он признавался, какие тяжелые чувства владели им в первое время пребывания в Петербурге:
«...вспомнил я покинутый родной дом, знакомые поля, леса, серые, убогие деревушки, и из этого шумного, чуждого мне города я унесся мысленно туда, в глубину России, где “вековая тишина”, где лишь ветер не дает покою вершинам придорожных ив, и выгибаются дугою, целуясь с матерью-землею, колосья бесконечных нив < .„> “Вот он, Петербург, - со вздохом подумал я, -вот тот город, куда я так страстно стремился, о котором я уже давно грезил во сне и наяву. Что-то дает он мне!..” Посмотрел я на потемневший город, на темное ночное небо, на мерцавшие звезды, и почувствовал я себя одиноким, страшно одиноким. Все для меня здесь чужие, и я всем чужой, - никому до меня дела нет. Мне стало страшно <^> Мало ли здесь гибнет народу! И я почувствовал себя песчинкой, попавшей в водоворот...»7.
Такие же безотрадные чувства, ощущение вселенского одиночества овладевают в большом городе и героями «Задушевных рассказов». Так, в рассказе «Перед печкой» Тане «чудится, что для нее с братом нет угла во всем этом обширном Божьем мире, нет на их долю богатства посреди этих богатств, нет для них счастья и радости посреди счастливых и радостных...» (128). Заметим, что, если в русской классической традиции образ Петербурга обладает «аксиологической амбивалентностью» [16: 77], то в «Задушевных рассказах» П. В. Засодимского он предстает исключительно в своей негативной ипостаси, что связано с особенностями народнической позиции писателя.
В рассказе «Ночь на Новый год», который открывает первый том «Задушевных рассказов», большой город изображен в традициях петербургского текста А. С. Пушкина и Ф. М. До -стоевского, писателей «натуральной школы» и Н. А. Некрасова. Он представлен локусами многоэтажного дома, кладбища, тюрьмы, фабрики, набережной и улицы.
Образ многоэтажного дома - своего рода модель современного иерархического общества, рассказывающая о положении того или иного сословия в современной России. Описание каморки бедняков в подвальном этаже включает почти все элементы, характерные для петербургского текста Достоевского: «желто-серые каменные стены», позеленевшие от сырости углы, теснота и замкнутость пространства, крохотное окошечко, которое выходит во двор и так низко, что девочка, обитательница этой каморки, «легко могла бы видеть из него камни мостовой», впрочем, замечает автор, «и не стоило глядеть в это окошко: из него не видно ни кустика, ни деревца, ни единого клочка голубого неба». «Каменные стены замыкали двор со всех четырех сторон», превращая пространство в своего рода тюрьму, каморка Тани и Феди («Перед печкой») «походила на арестантский каземат», костюм Феди - на костюм каторжанина: «Коричневое, затасканное суконное пальтишко в заплатах и дырах», а «на спине, на том самом месте, где у каторжников ставится знак, наложена большая желтая заплата» (111). Подробные описания костюмов, интерьеров, мебели, быта городских низов в «Задушевных рассказах» восходят к традиции «Натуральной школы», а также этнографического направления в русской литературе, к которому принадлежали писатели-народники [20].
Локус тюрьмы становится выражением несвободы человека в городском пространстве, одним из символов города:
«Большое серое каменное здание с железными воротами, с решетчатыми окнами и башнями по углам мрачною, тяжелою тенью рисуется на фоне синего ночного неба. В окнах этой серой каменной громады не видно огня, ворота наглухо заперты - никто в них не входит теперь: не слышно голосов людских, не слышно жизни» (22-23).
Узник этого «каменного гроба» мечтает о свободе. Обретет ли он ее? Ведь и свободные от тюремного заключения нищие, униженные и оскорбленные городского пространства чувствуют себя здесь узниками. «В урбанистической литературе, - указал в свое время Н. П. Анциферов, - жизнь тюрьмы трактуется как элемент жизни города, тесно с ней связанный» [1: 442]. Это демонстрируют произведения Ч. Диккенса, О. де Бальзака, однако странно, по мнению ученого, что «тюрьма не сделалась петербургской темой» Ф. М. Достоевского [1: 442]. В этом смысле городские тексты П. В. За-содимского продолжают традиции Диккенса и Бальзака.
Картина большого города в рассказах П. В. За-содимского включает также образ городских промышленных окраин: «громадные фабрики» резко и мрачно выделяются на фоне неба, соседствуют с пустырями и кладбищем. Один из персонажей рассказа «Ночь на Новый год» старик-нищий был искалечен «страшной, недоброй фабричной машиной» (26), а затем выброшен на улицы большого города, где он умирает от холода и голода в праздничный вечер.
«В урбанистической литературе Запада при осуждении “большого города”, - замечает Н. П. Анциферов, - выдвигается тема освобождения от него, часто представленная темой бегства. Большому городу противопоставляется тишина старинного провинциального городка или же природа» [1: 444].
В святочных рассказах П. В. Засодимского городские бедняки только мечтают о солнце, лесе, просторе полей, вспоминают свое детство в деревне, понимая, что этим мечтам не сбыться. Так, в финале рассказа «Ночь на Новый год» в предсмертном видении старика-нищего появляется картина его деревенского детства, восходящая к архетипу рая, противопоставленная реальности капиталистического города:
«Старик видит себя опять маленьким мальчуганом, чумазым, краснощеким, таким здоровым и веселым. Он еще живет в своей родной деревне, у отца у матери. Вот он бегает по полю, бегает по лугам, между зеленеющими кустами <…> Небо ясное, без облачка. Красивые бабочки порхают по цветам. А цветов – словно ковры разостланы по лугам. И сладко, хорошо пахнут цветочки… Теплый ветерок тихо подувает ему в лицо… А солнце такое большое, яркое-яркое, смотрит на него с небес и обдает потоками света и тепла… Где-то в кусту запевает птичка. Ясные звуки льются над землею, несутся к сияющим небесам… Хорошо, очень хорошо!» (27–28).
В рассказе «Перед печкой» оппозиция «город / деревня» заявлена уже в эпиграфе:
«В том мире нет лугов, Ни цветов, ни трав душистых, Ни веселых мотыльков», – строки которого отсылают к архетипу рая, с одной стороны, с другой – дают оценочную характеристику миру города, в котором живут и умирают юные герои рассказа.
«Святочные рассказы» в сборнике «Задушевные рассказы» заканчиваются не торжеством христианского идеала, не чудесным спасением, а гибелью детей, что выражает авторское отношение писателя к капиталистическому городу. В предсмертном видении Тани («Перед печкой») появляется чудовище, погубившее жизнь ее и брата:
«Сквозь сон Тане живо, явственно представляется, что на нее с братом идет какое-то темное чудовище, с черной косматой головой, с длинными-длинными ручищами, черными, как сажа, вместо глаз у него угольки, и горят они неприятным зеленоватым светом, то помер-кая, то ярко вспыхивая…» (139).
Картина сна девочки явно отсылает к архетипической картине ада. А. Соболев в работе «Загробный мир по древнерусским представлениям» писал о том, что на церковных и лубочных картинках ад «изображается в виде открытой огнедышащей пасти чудовищного змея, извергающего из себя вечный неугасимый огонь, охватывающий собой все подземное царство» [13]. В художественной системе рассказа «чудовище» – это угарный газ, от которого погибли дети, но этот образ обретает также метафорическое (чудовище – капиталистический город) и архетипическое измерение (капиталистический город – ад) и создает глубокий символический подтекст произведения.
В рассказе «Вовка» картины деревенского детства героя в семейном теплом кругу, на лоне прекрасной природы противопоставлены образу Петербурга, который представлен локусами клиники и Смоленского кладбища. Смерть 14-летнего героя, который приезжает в столицу учиться в кадетском корпусе, мотивирована не социальными обстоятельствами, как в святочных рассказах сборника, а роковой силой, которой подвластны все на земле, – болезнью. Тем не менее неслучайно автор «посылает» умирать своего юного героя в Петербург – город, построенный вопреки природным обстоятельствам, город искусственный, который был осмыслен в русской классической традиции (А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский) как гибельное место [17]. В. Н. Топоров писал, что петербургский текст русской литературы – своего рода «поминальный синодик по погибшим в Петро-поле, ставшем для них подлинным Некрополем» [17: 30]. К «Задушевным рассказам» это имеет прямое отношение: все святочные рассказы в сборнике завершаются смертью героев.
Изображение антигуманной сущности большого города, Петербурга, выполняет не только гносеологическую, ценностно-ориентационную, но и гуманистическую, воспитательную функцию. По мысли В. Н. Топорова, «внутренний смысл» Петербурга и петербургского текста состоит в
«достижении более высокого уровня духовности… Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал» [17: 5].
К городским (петербургским) текстам сборника «Задушевные рассказы» примыкает «История двух елей», где изображается промышленный провинциальный город. Для осуждения городской цивилизации писатель использует метод остранения (В. Шкловский): городское пространство дается в восприятии субъективированного объекта – рождественской елки, которая продается на рынке. Елочка, в первый раз оказавшаяся в городе, поражена шумом, толкотней, суетой городской жизни:
«Уличный шум на первых порах оглушил ее и после лесного безмолвия показался ей до того адски-невыно-симым шумом, что она готова была бежать без оглядки в лесную чащу, где в дремотной тишине стоят под снегом ее зеленые собратья…» (181).
Рождественский базар ужасает ее «грудами всякой мертвечины», около которых ходят люди:
«Тут ель нашла и своих старых знакомых… но в каком жалком виде! Мертвые зайчики лежали, вытянув лапки и оскалив свои белые резцы. А далее – пестрые рябчики, куропатки, большие черно-сизые тетерева-глухари…» (181).
Поведение людей удивляет елочку бессердечием, жестокостью, озлобленностью, равнодушием к ближнему: «точно весь город обезумел» накануне Рождества. Такая картина дисгармоничной городской жизни резко противопоставлена картине жизни леса, данной в начале рассказа.
Главный герой «Истории двух елей» Коля в рождественский праздник мечтает, что когда-нибудь уедет жить в деревню с матерью и подругой Соней, но после смерти матери он вынужден остаться в провинциальном городке, где жизнь людей определяет завод. Городская среда изображается как ограниченная и отделенная от всего Божьего мира, противопоставленная природному пространству: завод находится за железными глухими воротами, на окнах заводской конторы решетки, рабочие, как узники, вынуждены отбывать срок в мастерских. В описании города доминируют образы мастерских с красными кирпичными стенами, высокими закоптелыми трубами, «то и дело изрыгавшие дым и искры»; акцентируется образ железа (железные решетки, железные ворота, железные шкафы в конторе), с которым сочетаются звуковые образы скрежета, треска, «адски-нестерпимого» грохота города. Только в мечтах городского жителя возникает образ идеального и гармоничного мира природы: воображение героя ведет его
«далеко-далеко, в поля, луга, в леса, где журчат ручьи, плещут тихим, баюкающим плеском речные волны, где не трещат, не грохочут машины, не дымят и не сыплют искрами закоптелые, высокие трубы, где воздух чист, небо синее и все от края до края видимо человеку, где цветут цветы, и жаворонок поет в сияющих небесах» (202).
Очевидно, что изображение городского пространства отсылает к архетипу ада, изображение природы – к архетипу рая.
В рассказе «Дочь угольщика» оппозиция «город / деревня» представлена в форме столкновения двух точек зрения – деревенской и городской девочек. При этом автор прибегает к инверсированной модели: не деревенский житель в городской среде, а горожанин в деревне. Го -родской ребенок Леля попадает в сельское пространство и знакомится с миром природы и жизнью людей другого сословия – крестьянского. В центре рассказа – спор городской жительницы Лели и «лесной царицы» Зинки о достоинствах и значении для людей города и деревни. Автор вводит в художественную систему рассказа «диалогический конфликт», характерный для поэтики «Натуральной школы», с традицией которой тесно связано творчество П. В. Засодимского.
«Суть диалогического конфликта, – указывает В. М. Маркович, – сводится к тому, что противоположные (чаще всего взаимоисключающие) субъективные точки зрения сталкиваются на фоне действительности, обнаруживая перед ней свою односторонность и недостаточность и тем самым выявляя, косвенным образом, ее широту и неисчерпаемую сложность» [9: 69].
Писатель приводит точки зрения героев, их аргументы, и, хотя его симпатии на стороне деревенской жительницы, он воздерживается от однозначных ответов, предлагает читателю включиться в спор героев. Городская цивилизация, увиденная и оцененная ребенком («естественным человеком»), – этот прием явно отсылает к творчеству Л. Н. Толстого: в «Войне и мире» военный совет в Филях изображается глазами крестьянской девочки. В романе «Воскресение» «народнокрестьянская точка зрения» на жизнь оказывается «единственно справедливой» [11: 133] – только с этой позиции можно оценить абсурдность современной человеческой цивилизации. П. В. За-содимский разделял этические и эстетические взгляды Л. Н. Толстого, отношение которого к городской цивилизации было близко к народническому. Некоторые из современников (П. Л. Лавров, Д. Н. Овсянико-Куликовский и др.) даже относили Толстого к представителям народничества [10].
Героиня рассказа «Дочь угольщика» Зинка считает, что в деревне «лучше, чем в ваших каменных домах»: «У нас вольнее…». «Худо» то, что город все забирает из деревни, из леса, а ничего не дает. «Лесная царица» выражает народное представление: «Наш лес – собиру-ха, а город ваш – подбируха». Крестьяне могут прожить без помощи города, а город не сможет без крестьянского труда. Зинка опасается города, так как туда уходят односельчане и чаще всего не возвращаются, погибают или приходят увечными.
Пытаясь защитить город, Леля говорит об учителях, лекарях, которые приезжают из города в деревню. Но Зинка ей возражает: не видела она ни лекарей, ни учителей в их деревне. В рассказе отразилась позиция П. В. Засодимского по поводу теории «малых дел» и «культурной работы», о которых разгорелся спор в современной писателю публицистике. Он разделял взгляды народника Я. В. Абрамова, в середине 1880-х годов «призвавшего интеллигенцию к новому походу в деревню (на “культурную работу”)» [10:
20], сам принимал участие в организации библиотек для народа, просветительских мероприятий. Леля чувствует себя в споре с «лесной жительницей» побежденной: она ощутила себя
«маленькою, слабенькою и даже глупой перед этой смелой, смышленою девочкой, дочерью простого угольщика, которая сама себя кормит, поит, одевает, достает себе лакомства и забавляется без всякой чужой помощи»8.
Писатель явно симпатизирует своей крестьянской героине, позже в книге «Из воспоминаний», рассказывая о работе в сельской школе, он признается, что крестьянские дети более серьезные, чем городские, они знают жизнь, труд9. В соответствии с народническими взглядами П. В. За-содимский создал в этом рассказе утопическую картину крестьянской жизни, в основании которой лежит связь с природой, труд, «чистота нравственного чувства» (Н. Г. Чернышевский), и противопоставил ее праздной городской.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бинарная оппозиция «город / деревня» является важнейшей в создании художественной модели действительности в «Задушевных рассказах» П. В. Засодимского и представляет собой основной способ концептуализации авторской картины мира. Она углубляется и конкретизируется с помощью таких бинарных оппозиций, как открытое / закрытое пространство, про стор / теснота, свет / тьма, жизнь / смерть, здоровье / болезнь, добро / зло, дом / антидом, гармония / дисгармония.
Структурно-смысловой анализ выявленных контрастных пар позволил установить связь художественного мира «Задушевных рассказов» с мифологическими представлениями об аде и рае: образ города как места вечной неизбывной муки создается с помощью характерных для мифопоэтической картины мира компонентов описания ада (тьма, мрак, смердящее пространство, холод, огонь, красный цвет, дьявол (чудовище), вечные страдания); образ деревни как места вечного блаженства – с помощью традиционных компонентов рая (ясное небо, горний свет, солнце, не обжигающее, но изливающее тепло, тишина, покой, гармония, радость, красота цветов, сада, райское пение птиц).
Возникающий на основе названных архетипических образов глубинный символико-мифологический подтекст связан с авторской аксиологической системой, его религиозными и этическими взглядами, а также с его народнической позицией. Используя фундаментальные оппозиции мировой культуры «рай / ад», «добро / зло», П. В. Засо-димский создает в «Задушевных рассказах» своего рода утопию (образ деревни) и антиутопию (образ города), выражая отношение к современной действительности, размышляя о судьбах России и человеческой цивилизации.
Список литературы Оппозиция «город / деревня» в «Задушевных рассказах» П. В. Засодимского
- Анциферов Н . П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе: опыт построения образа города - Петербурга Достоевского - на основе анализа литературных традиций. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 584 с.
- Боева Г. Н. «Кто из нас прав, кто умнее?»: деревня vs город в рассказах В. М. Шукшина // Синтез традиций и новаторства в литературе, языке и культуре («Фетовские чтения»): Материалы междунар. науч. конф. / Под. ред. Е. М. Криволаповой. Курск: Курский гос. ун-т, 2020. С. 99-105.
- Бурмистрова Т. А. Лексическая оппозиция «Город - деревня»: лексикографический аспект // Мир русского слова. 2013. № 4. С. 37-40.
- Гоголадзе Т. А. Оппозиция «город / село» в прозе писателя-народника С. Мгалоблишвили // Актуальш проблеми слов'янсько! фшологп. Серiя: Лшгвютика i лггературознавство: Мiжвуз. зб. наук. ст. 2010. Вип. XXIII, ч. 1. С. 156-163.
- Горинова Н. В. Топосы город / деревня в поэтической системе А. Елфимовой: некоторые аспекты реализации художественного пространства в современной коми лирике // Вестник угроведения. 2018. Т. 8, № 3. С. 426-437.
- Душечкина Е. В. Русская елка. История, мифология, литература. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2012. 360 с.
- Душечкина Е. В . Русский святочный рассказ. Становление жанра. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1995. 256 с.
- Зеленин Ю. А. К вопросу о значении мировоззрения Л. Н. Толстого и его принадлежности к народничеству (историографический аспект) // Народники в истории России: Межвуз. сборник науч. тр. Вып. 2 / Ред-кол. Г. Н. Мокшин (отв. ред.) и др.; Воронежский гос. ун-т. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. C. 37-49.
- Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман 19 века (30-50-е годы). Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. 208 с.
- Мокшин Г. Н. Проблема реконструкции теории «малых дел» в отечественном народниковедении // Народники в истории России: Межвуз. сборник науч. тр. Вып. 2 / Редкол. Г. Н. Мокшин (отв. ред.) и др.; Воронежский гос. ун-т. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. С. 20-36.
- Одиноков В. Г. Поэтика романов Л. Н. Толстого. Новосибирск: Наука. Сибирское отд-ние, 1978. 160 с.
- Пыхтина Ю. Г. Ментальное пространство в тексте: национальные, региональные и индивидуальные аспекты. Оренбург: ОГУ, 2021. 133 с.
- Соболев А . Загробный мир по древнерусским представлениям. Сергиев Посад, 1913 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Sobol/index.php (дата обращения 24.05.2022).
- Старыгина Н. Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. Вып. 2. Художе -ственные и научные категории. Петрозаводск, 1992. С. 113-127.
- Староверов В . Россия и ее деревня: историческая обусловленность их общинной социальности. Из автобиосоциохроники одного старообрядческого рода: Монография. М.: Библио-Глобус, 2019. 362 с.
- Столович Л. Н. Аксиология Петербурга // Метафизика Петербурга (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры. Вып. I). СПб., 1993. С. 74-83.
- Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. СПб.: Искусство - СПб, 2003. 616 с.
- Тхакур С. К. Дихотомия «Город и деревня» в рассказах В. М. Шукшина и Пханишварнатха Рену // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2017. Vol. 22, No 1. С. 76-83.
- Филимонова Т. С. Город и деревня в рассказах Нгуен Хюи Тхиепа // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2018. № 4. С. 184-195.
- Фокеев А. Л. Этнографическое направление в русском литературном процессе XIX века // Русское литературоведение в новом тысячелетии: Материалы первой Междунар. конф. М., 2002. С. 228-232.
- Хаджиева Л. Л. Оппозиция «деревня - город» в творческом сознании М. Исаковского // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение. Вып. 1 (192). 2017. С. 148-152.
- Шабаев Ю. П., Садохин А. П., Лабунова О. В., Сазонова Н. Н. Антропологическое понимание города и методология урбанистического изучения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 248-267.
- Шестакова И. В . Онтологические основы «деревенского» кинематографа В. Шукшина: фильм «Ваш сын и брат» // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 6. С. 413-415.
- Шишигина Т. Л. «Развивать гуманные чувства.» Изучение святочных рассказов П. В. Засодимского, А. В. Круглова, В. И. Белова. V-VI классы // Литература в школе. 2017. № 9. С. 26-31.