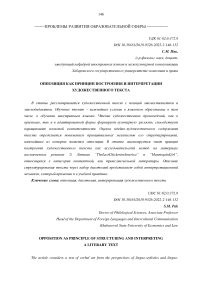Оппозиция как принцип построения и интерпретации художественного текста
Автор: Пак С.М.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы развития образовательной сферы
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статье рассматривается художественный текст с позиций лингвостилистики и лингводидактики. Обучение чтению - важнейшее условие в языковом образовании, в том числе, в обучении иностранным языкам. Чтение художественных произведений, как в оригинале, так и в адаптированной форме формирует культурную зрелость, способствует наращиванию языковой компетентности. Оценка идейно - художественного содержания текста определяется пониманием принципиальных механизмов его структурирования, важнейшим из которых является оппозиция. В статье анализируется этот принцип построения художественного текста как исследовательский метод на материале англоязычных романов Э. Литман “TheLastChickeninAmerica” и “MannequinGirl”, относящихся к категории контактной, или транслингвальной литературы. Описание структурирования текста через набор дихотомий представляет собой интерпретационный механизм, который применим и в учебной практике.
Оппозиция, дихотомия, интерпретация художественного текста
Короткий адрес: https://sciup.org/143179170
IDR: 143179170 | УДК: 81:82.0:372.8 | DOI: 10.38161/2618-9526-2022-2-146-152
Текст научной статьи Оппозиция как принцип построения и интерпретации художественного текста
Рассмотрение художественного мира литературного произведения – предмет исследований на стыке литературоведения, лингвистики, герменевтики и дидактики, поскольку чтение как вид языковой деятельности формирует общекультурную и языковую компетентность. Язык художественного произведения репрезентирует художественный мир, кодирует его идейно-художественное содержание. С точки зрения семиотики художественного текста, описанной в работах И. Гальперина, Р. Барта, литературное произведение – сложный эстетический знак, где означающим выступает художественная форма, актуализируемая через такие оставляющие как композиция произведения, предметный мир, образы персонажей, а также сама речевая ткань текста. Означаемым выступает идея автора, которая субъективно реконструируется в процессе восприятия и интерпретации текста/декодирования.
Интерес к заявленной проблематике не случаен. Когнитивная наука определяет простые дихотомии как основу человеческого восприятия. Так, рассматривая психологические основы восприятия и познания, А.Н. Исаева определяет простые бинарные оппозиции как механизм базового уровня категоризации мира: «оппозиции — это кардинально различные, противоположные и необходимо связанные элементы целого в его изменениях и становлении» [3, с. 204]. Бинарные «оппозиции — это способ “укоренения” индивидуальной психики и практики в человеческой жизни. Посредством оппозиций, имманентных представлениям, мышлению и языку, индивидуальное сознание способно дифференцировать, систематизировать и моделировать внешний и внутренний мир» [3, с. 205].
В. Г. Артемова и Я. В. Филиппова отмечают, что ментальность как таковая позволяет «обнаружить оппозиции природного и культурного, эмоционального и рационального, индивидуального и коллективного» [1, с. 2].
Ментальность народа в целом и человека в частности проявляется через простые социально-биологические дихотомии: «свое-чужое», «хорошее-плохое», «добро-зло», «мужчина-женщина». Этот контекстуально обусловленный ряд противопоставлений можно продолжить: «столица-провинция», «богатые-бедные», «здоровые-больные», «лоялисты-диссиденты», т.д. Мышление оппозициями — это некий аналог двоичной системы нашего биокомпьютера. В совокупности и в комбинациях, с учетом тех контекстов, в которые их помещает автор, порой чисто интуитивно, — оппозиции представляют собой уникальный «строительный материал»: нечто вроде строительных кирпичиков — «семантических единиц», с помощью которых реализуется та или иная архитектоника конструкции любой сложности [2 , с. 11].
Кино, театр, художественная литература переносит эти пары в собственное пространство искусства, моделируя свою «систему координат».
Безусловно, художественный мир – это всегда определенное прочтение, интерпретация замысла. Однако базовые биологические, психологические и социальные оппозиции обладают, по словам Л.Б. Клюевой, свойством транзитивности, «перемещаясь» из текста в текст, из сюжета в сюжет [2, с. 11], делая описываемый исследовательский метод ресурсом реконструкции замысла и адекватной интерпретации текста.
В практике лингвистического образования, в том числе, в обучении иностранным языкам использование транслингвальной художественной литературы представляет собой полезный дидактический ресурс, позволяющий мотивировать обучающихся к чтению, обсуждению, критическому мышлению.
Считая оппозицию не только перманентной характеристикой вербального искусства, но и мощным исследовательским ресурсом, рассмотрим, как этот принцип «работает» в текстах Эллен Литман, американской писательницы русско-еврейского происхождения, профессора университета Коннектикута, США. Э. Литман эмигрировала с родителями в возрасте девятнадцати лет. Основные произведения писательницы – роман в рассказах «Последний цыпленок в Америке» (2007 г.) и роман «Девочка-манекен» (2014 г.). Творчество Э. Литман относится к активно разрабатываемой теории контактной вариантологии языка, – контактной, или транслингвальной художественной литературе, представляющей собой особую социальноэстетическую ситуацию, когда адресатом произведения являются представители инокультуры. Для произведений Э. Литман это американский читатель, для которого мир героев чужд. Герои рассказов сборника ‘LastChickeninAmerica’– иммигранты, особая категория граждан США, воспринимаемых как «другие».
Сборник рассказов «Последний цыпленок в Америке» пронизывает центральная идея – размышления о жизни российских эмигрантов в США, чей российский менталитет не позволяет им интегрироваться в американскую реальность. Во многом жизнь героев повторяет судьбу семьи автора, не случайно она поселяет их в Сквирел Хилл, еврейский район Питсбурга, Пенсильвания, куда и переехала семья Литман. Таким образом, мы видим конфликт «свое-чужое», «русское-американское», проявляющийся в поведенческих, языковых моделях, ценностных ориентациях героев. Протагонист автора, Маша, стремясь вырваться из местечковой иммигрантской среды, уезжает в Нью-Йорк и всячески стремится вытравить из головы и души следы «русскости»: поступает в Гарвард, не общается с выходцами из России, читает американские книги, смотрит CNN, не готовит русские блюда, но понимает, что не может избавиться от рефлексии, приступам уныния, неуверенности в себе, т.е., преодолеть «русскость» и стать «как они»:
And what if my father guessed the truth? What if there was something faulty in me that made Tom reluctant? I watched CNN, I ate out, I read American books. I’d quit my job and gone back to school, which was most Americans admired. But I lacked their boldness and fluency, their flippant resistance to gloom. My father said I’d never be quite like them. [5, p. 229].
В этом – конфликт культур и непреодолимая преграда, которые проявляются как бинарная оппозиция.
На последних страницах книги в рассказе с символическим названием «Home» героиня признается себе в фиаско: она вернулась в Питсбург, чувствуя себя «у разбитого корыта»:
‘I felt emptied and beaten and left with an old broken through’ [5, p. 229].
Роман «Девочка-манекен» в широком плане реконструирует советскую жизнь 80—90-х годов и на этом фоне описывает жизнь героини, Кэт Кнопман. Жанровую специфику романа можно определить в терминах М. Бахтина как «роман воспитания», т.к. в центре – динамическая составляющая образа героини, «момент существенного становления человека». История героини – череда испытаний, школа выживания в мире, где девочка отчуждена от семьи, помещена в школу-интернат для больных детей с заболеваниями опорнодвигательной системы, вынуждена существовать в обстановке детской вражды и учительского деспотизма, постоянного страха и тоски. Она проходит своего рода инициацию, путь в восемь лет. Композиционно роман разделен на две части, обозначаемые годом происходящих событий: часть первая называется «1980» (героине 7 лет), вторая – «1986» (героине 13 лет). Здесь моделирование художественного текста проходит по линии ряда противопоставлений: «героиня-ее мать»,
«отец-мать», «дети в спецшколе-учителя», «чиновники/начальники-подчиненные», «более здоровые дети-менее здоровые дети», «молодые учителя-«старая гвардия», «любовь-нелюбовь». Таким образом, конфликт становится основой конструирования художественного мира произведения и отражен в самом названии романа: «девочка с серьезной деформацией позвоночника – девочка-манекен».
Ключевой конфликт и архетипическая доминанта романа
– эмоционально-
чувственное пространство состояния героини через конфликтное взаимодействие с окружающим миром. Конфликт вводится с первой фразы романа, где дается точная дата начала описываемых событий, возраст героини и связанным с ним мировосприятие героини – девочки семи лет, которая с нетерпением и волнением ждала начала новой, школьной жизни:
‘In July she becomes an anomaly, a glitch in a plan, a malfunction in an otherwise perfect mechanism’ [4, p. 11].«Совершенный механизм» – это семейная и внутренняя гармония девочки-кнопки, живущей в мире сказок и стихов, любимицы отца:
‘Her parents are with her. She is safe and hemmed in by them, shielded by their shoulders and elbows’ [4, p. 33].
Дальнейшее повествование об одиночестве, ужасе и тоске – следствие предательства семьи.
Рассмотрим две основные линии конфликта в романе. Первая связана с описанием социальной реальности Советской России, «темной и гнетущей» (из предисловия к роману: ‘…captures the bleakness of Soviet Russia). Государственная машина, «система» воплощена в людях, от которых зависит жизнь маленькой больной девочки. Создается оппозиция «государство-человек», где государство воплощено через образы обезличенных субъектов на службе – чиновников, врачей, учителей, противопоставленных отдельным личностям. Это врач-ортопед в районной детской поликлинике, ее категоричность и безжалостность выражается через отсутствие прямых обращений, презрительного транслитерированного «mamasha», прямым обвинением:
‘First they neglect their children, and then it’s up to us – and the government – to bear the consequences. …You should be deprived of your parental rights. You’ve crippled your daughter’ [4, p. 16].
Секретарь директора спецшколы для больных детей, воспитатели описаны как бездушные машины, не живые люди, но функции:
‘We treat these children,’ says the secretary. ‘We educate them. You don’t like our methods; you can take back your girl’s paperwork. We have a waiting list full of very grateful people’ [4, p. 40].
Описание тяжелого фона социальных реалий достигает апогея в сцене знакомства Кэт с работниками школы. Писательница лаконично и образно воссоздает мир героев романа, описывая секретаря:
‘She is a youngish woman, thin and sallow, with a drippy, malnourished sort of face. You take one look at her and imagine all her troubles: a slogger husband, sickly kids, limited salary, early pain in the joins, … the sales clerk at the milk store who called her an imbecile…’ [4, p. 38].
Как видно, общий коммуникативный стиль раздраженности, агрессии как инфекция распространяется в описываемом обществе:
‘It’s the first day of school, which means that tonight Margo is primed to deliver her start-of-the-year harangue: where not to be, what not to do’ [4, p. 133].
Контраст усугубляется, когда этот стиль взаимодействия охватывает больных, затянутых в металлические корсеты, преодолевающих физическую боль и психологические муки детей:
Совокупность литературных приемов воссоздания советского мира выполняет парольную, или креативно- идентифицирующую функцию. Предельно лаконично идея обезличенности и бездушности государственной машины передана в книге другого писателя-эмигранта Гари Штейнгарта «Absurdistan»: герой, облеченный властью, положением, пользуется «редчайшим сокровищем в богатой природными ресурсами богатством – уважением»:
‘You are blessed with the rarest treasure to be found in this mineral-rich land. You are blessed with respect’ [6, p. 3-4].
Другая линия противопоставления связана с отчуждением героини от семьи, одиночеством. Девочка переживает предательство родителей, учителей русского языка и литературы обычной московской школы. Ощущение отчуждения передается рядом деталей, реализуемых через языковые приемы, например, холодность и взрывной характер матери передается через глаголы и наречия, обозначающие модальность речи, через речевой портрет:
‘– What about school?
– I don’t know, snaps Anechka’ [4, p. 16].
Семантика глагола ‘snap’ – «огрызаться, говорить со злобой в голосе».
‘She’d call Kat her misfortune’ [4, p. 19].
Чувство страха к физическим увечьям и осознание собственной неполноценности в сочетании с необъяснимым для ребенка отстранением родителей приводит девочку к паническим атакам, талантливо воссозданным в романе. Реакция матери – не поддержать дочь, а стыдить ее, призывать к мужеству, послушанию:
‘At least you could have helped,’ says Kat. – But she knows it’s useless: Anechka doesn’t help…You’re a disgrace…The problem is behavior, being a decent girl, with arguing with adults, not talking back’ [4, p. 14-15]; ‘Anechka tries to shame her…’ [4, p. 36].
Конфликт передается через использование уменьшительно-ласкательной формы имени матери героини ( Anechka ) как единственной формы референции в противопоставлении со стилем ее общения с дочерью. Для русскоязычного читателя «Анечка» – диминутив, который также сводится в контексте книги к знаку противопоставления между уменьшительно-ласкательной формой имени и образом персонажа. С первых страниц романа имя героини не вводится (her mother); лишь на четырнадцатой странице в диалоге с дочерью появляется имя, диссонирующее со стилем общения.
На страницах романа разворачивается целый ряд сюжетных линий, все из которых построены по принципу оппозиций, реализуемых через лингвостилистические и коммуникативные приемы. Государственный аппарат в лице чиновников от медицины, образования «катком» проезжает по людям, ломая их, лишая эмпатии. Это история распада семейного союза родителей героини, конфликтов внутри учительского сообщества – личностных, социальных, возрастных, национальных. История первой любви героини-подростка также строится на любви-ненависти. Архетипическим фактором образа Кэт является страх как производное мира девочки.
Для ее бабушки она – тяжелая ноша, кандалы ( imprisonment, ‘…a road like a tablecloth ); для матери – идеальный ребенок послушен и молчалив. Детский коллектив расколот на «стадо» ( gaggle ) и «дети драмкружка» ( drama kids ).
В детском сообществе неизбежно проявляются те же тенденции, что и в мире взрослых. Дети копируют коммуникативный стиль, проявляют такую же настороженность, отчужденность и агрессию, которую они «вычитывают» из дискурса учителей. Первая встреча Кэт с детьми описывается через метафору «бомбы с часовым механизмом»:
‘Now they eye Kat with caution, as if she were a ticking bomb, or as if she’d gotten sick on purpose’ [4, p. 36].
Dramakids представлены как сохраняющие свою личность, ученики диссидентствующих сопротивляющихся учителей, внутренне протестующих против зарегулированной жизни ( orderlyworld ), которая образно описывается как «игра в классики»:
‘Every game this year seems to involve classes, grades, advancing to the next level. Their world is normal, orderly, like a sheet of ruled paper, like hopscotch squares’ [4, p. 18].
Таким образом, противостояние героини и мира носит как социальный, так и индивидуальный характер. История частной и публичной жизни Кэт Кнопман («Кнопки») – это история отчуждения от взрослых и сверстников, собственной семьи и общества, от предавшего друга и одновременно, история обретения себя, своей «самости», цельности и сильного характера. «Манекен» – это стойкий человек, преодолевший болезнь и психическую травму.
Анализ композиции, сюжета, языка романа с точки зрения оппозиции как принципа организации текста выводит на уровень интерпретации идейно-художественного содержания и представляется продуктивным инструментом работы с художественным текстом, в том числе в педагогической практике.
Список литературы Оппозиция как принцип построения и интерпретации художественного текста
- Артемова, В. Г., Филиппова, Я. В. Ментальность русского народа: традиции и эволюция // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. - 2008. - № 2 - С. 1-12.
- Клюева, Л.Б. О сущности и значимости работы над семантическими оппозициями в художественном тексте // Вестник Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова. - 2021. - Том 13. - №3(49). - С.8-24.
- Исаева, А. Н. Оппозиция в познании и рефлексии личности / А. Н. Исаева // Мир психологии. - 2013. - № 4. - С. 204-213.
- Litman E. (2014). Mannequin Girl. - New York, London: W. W. Norton & Company.
- Litman E. (2007). The Last Chicken in America. - New York, London: W. W. Norton & Company.
- Shteyngart G. (2007). Absurdistan. - New York: Random House Trade Paperbacks.